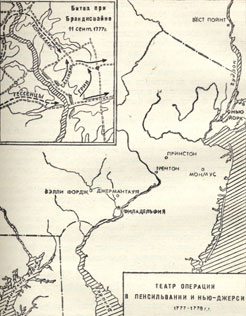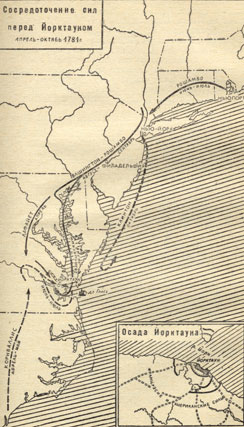ГЕНЕРАЛ ВАШИНГТОН

Генерал Вашингтон
Предстояла длительная суровая борьба с сомнительным исходом. Было известно, что ресурсы Британии, в сущности, неистощимы, ее флоты покрывали океан, а войска увенчали себя лаврами во всех уголках земного шара. Не будучи нацией, никому не известные как народ, мы не были готовы. Денег, нерва войны, не было. Пришлось ковать меч на наковальне необходимости...
Если у нас и были неизвестные врагу тайные ресурсы, то они состояли в непоколебимой решимости наших граждан, осознании правоты нашего дела и уверенности, что бог не оставит нас.
Главнокомандующий со свитой еще скакал к армии, а она уже дала самое кровопролитное сражение войны за независимость - у Банкер-Хилла.
В конце мая 1775 года королевский флот доставил в Бостон подкрепление из Англии. Гарнизон увеличился до 6,5 тысячи человек. С флагманского фрегата на берег сошел великолепный триумвират - высокомерные английские аристократы генерал-майоры У. Хоу, Г. Клинтон, Д. Бергойн. В Лондоне они понаслышались о нерасторопности Гейджа, а, попав в Бостон, вознегодовали - толпы совращенной "черни" обложили войска его величества, отощавшие на скудном рационе. Этим трем генералам было суждено сыграть главную роль в проигрыше Англией войны в Америке. Но кто мог предвидеть будущее?!
А пока лихой триумвират настоял на том, чтобы выдвинуть вперед английские позиции, укрепив высоты Дорчестер к югу от города.
Руководители повстанцев собрались на военный совет. Возведенный конгрессом в чин генерал-майора, И. Путман предложил ответить контрманевром - соорудить бастионы па высотах Банкер-Хилл и Брид-Хилл, что на полуострове Чарлстон, к северу от Бостона. Опасения, высказанные в совете, что укрепления окажутся под огнем английских кораблей из гавани и батарей Бостона, Путман отвел энергичным замечанием - "американцы боятся не за головы, а за ноги. Прикройте ноги, и они век будут сражаться!" Путману поверили - полуграмотный 57-летний генерал, пришедший к Бостону во главе ополчения из Коннектикута, пользовался всеобщим уважением. Ради святой свободы он ушел из-за стойки процветавшего трактира. Но солдаты помнили - до того, как Путман стал трактирщиком, он прославился в войнах с индейцами и французами, побывал в плену, чудом избежал смерти от томагавка. Английский агент доносил, что в лагере под Бостоном воинский дух "сброда" поднимали, предлагая следовать примеру Цезаря, Помпея, старины Пута и "прочих великих людей". Что же, строили по образцу и подобию Древнего Рима. То, что Путман имел обыкновение разъезжать среди своего воинства в одной рубашке, соломенной шляпе и без стремян, дела не меняло.
В ночь на 17 июня Путман повел оборванных солдат на полуостров Чарлстон копать укрепления. Воины, по большей части фермеры, бодро взялись за привычные лопаты, и, когда рассвело, англичане в Бостоне остолбенели - горы свежевырытой красной глины обозначали грозные позиции янки (таково прозвище американцев - уроженцев США). Генерал Хоу рванулся проучить распоясавшихся мятежников - в середине дня во главе двух с половиной тысяч солдат он высадился на полуостров. На редуты сбежалось примерно столько же американцев. В самой невообразимой одежде, они уже по этой причине оскорбляли глаз военного, а пестрое вооружение просто возмущало. Некоторые сжимали в руках мушкеты "браун-бесс" - стандартное оружие английской армии. Гладкоствольный мушкет заряжался свинцовыми пулями диаметром почти в два сантиметра, скорость стрельбы три выстрела в минуту. Им наносились страшные раны, но попасть в цель на расстоянии свыше 100 метров было почти невозможно. Охотники, пришедшие с запада, имели кентуккские ружья, которые начали изготовлять немецкие мастера в Пенсильвании в середине XVIII века. Длинноствольное нарезное ружье позволяло точно поразить цель величиной с человеческую голову на расстоянии до 200 метров. В руках опытного стрелка то было грозное оружие, однако трудности заряжения - приходилось вгонять шомполом пулю, обернутую в промасленный пыж, - позволяли сделать только выстрел в минуту.
Пылавшие боевым задором янки толпились на редуте, беспечно посматривая на залитый летним солнцем луг, где под грохот барабанов и визг флейт споро строились англичане - легкая и морская пехота, гренадеры в красных мундирах и медвежьих шапках. Взвинченные обильной выпивкой и патриотическими речами, американцы не сомневались, что зададут жару войскам "министерства", не смущаясь, что на мушкет приходилось по 15 зарядов. У многих были самодельные пули, отлитые из свинцовых труб, снятых с органа церкви в Кембридже. На бастионы успели притащить и наскоро установили несколько пушчонок.
Хоу решил осуществить возмездие по всем правилам европейской тактики - в войнах середины XVIII столетия пехота, выстроенная в несколько линий, мерным шагом сближалась с войсками неприятеля, находившимися в таком же построении. В 50-100 метрах от врага наступавшие останавливались, разыгрывался смехотворный и мужественный церемониал - офицеры вежливо раскланивались, оспаривая друг у друга честь принять первый залп. Обмен залпами - и в штыки! Выстоять под первым залпом врага почиталось великой привилегией и признаком несравненной воинской доблести.
Итак, три безупречные линии английских солдат двинулись в фронтальную атаку на Брид-Хилл. Хоу напутствовал их словами: "Ведите себя, как подобает англичанам и хорошим солдатам", - добавив, чтобы никто не смел хоть на шаг опередить его, генерала, шагавшего впереди. Они пошли в траве по колено, сгибаясь под грузом амуниции - на каждом солдате было навьючено до 30 килограммов, пот струился из-под медвежьих шапок, мокрые пятна расползались на спинах и подмышках. Тревожный рокот барабанов звал в достойную битву - покарать смутьянов.
На редуте кто как мог прилаживал оружие, выбирая цель. Тучный старина Пут, с неожиданной легкостью управляясь на лошади, надрывался хриплым басом: "Не стрелять, пока не увидите белки их глаз!" Все же защелкали выстрелы нетерпеливых. По брустверу побежали офицеры, грозя шпагами и ударами поднимая стволы нацеленных мушкетов. С моря загремели орудия - ядра с отвратительным шипением погружались в глину редута, изредка поражая кого-нибудь из защитников. Когда наступающие подошли па полусотню метров, их встретил сокрушающий залп. Прошло несколько мгновений - стрелки, разрядившие мушкеты, отступили, дав место товарищам с заряженными, последовал второй, не менее убийственный залп.
Все заволокло пороховым дымом, а когда он рассеялся, поле было покрыто трупами в красных мундирах, уцелевшие попятились. С американских позиций трещали выстрелы - остроглазые охотники вопреки всем принятым европейским правилам войны выбивали офицеров. Хоу перестроил войска и бросился во вторую атаку. Опять неудача! Окутанный пороховым дымом, проклятый редут казался неприступным. Но на обратной стороне холмов нарастало смятение - англичане снова готовили штурм, батареи из Бостона осыпали калеными ядрами близлежащий городишко Чарлстон. Чадно горели дома, жители бежали без оглядки. На полуостров высаживались английские подкрепления. Робкие душой покидали редут, каждого раненого сопровождал в тыл десяток товарищей. Уходившие с позиций имели массу оправданий, главное из которых было трудно оспорить - порох иссяк.
Путман бросился в тыл, к редуту на Банкер-Хилл. Там томились, постепенно набираясь страха, резервные части. Надсадно ругаясь, раздавая удары направо и налево, генерал собрал толпу ополченцев и, размахивая шпагой, погнал их на позицию. Но на каждого затащенного на редут приходилось, по крайней мере, три дезертира. Тем временем англичане привели себя в порядок и с величайшей яростью в третий раз бросились на штурм. Снова по ним хлестал свинцовый ливень, но поредевшие ряды защитников не могли больше сдержать наступавших. Волна красных мундиров затопила укрепление, англичане к американцы схватились врукопашную. Силы были неравными, и американцы ударились в бегство. Только теперь они смогли оценить древнюю военную мудрость: стоять насмерть на укрепленном рубеже - основные потери янки пришлись на заключительный этап боя, когда они показали спину.
Потери англичан были ужасающими - 1054 человека, из них 226 убитых. Янки потеряли 440 человек, 140 из них пали на поле боя.
Стратегически Банкер-Хилл оказался пирровой победой для обеих сторон, в положении их ничего не изменилось. Но сражение имело громадные психологические последствия - англичане научились уважать и даже переоценили силу противника. Наспех собранное воинство показало неожиданные боевые качества, отныне английские командиры не решались штурмовать в лоб укрепления. Американцы сочли было сражение своим поражением, но вскоре воспрянули духом и с типично американской бравадой стали превозносить солдата-гражданина. Лексингтон, Конкорд и Банкер-Хилл легли в основу мифа о том, что не солдат регулярной армии, а американец от плуга, верстака пли прилавка - лучший воин на свете. Вследствие этого по стране стремительно распространились шапкозакидательские настроения. А Вашингтону предстояло строить регулярную армию.
* * *
"Его светлость", как стали именовать главнокомандующего, получил известие о Банкер-Хилле в Нью-Йорке, по пути к вверенным ему войскам. Из пространной депеши так и не было ясно, за кем осталось поле боя. Настроение Вашингтона не улучшилось, когда ему доложили о состоянии дел в колонии Нью-Йорк. Накануне его приезда в город революционный конвент проголосовал с мудростью, достойной библейского царя Соломона Давидовича, - одна рота торжественно встречает Вашингтона, другая - королевского губернатора (который по злосчастному совпадению прибывал из Англии в этот же день), а остальные примут участие в торжествах в зависимости от того, кто из названных лиц объявится в городе первым.
Было от чего прийти в отчаяние! В Филадельфии почтенные джентльмены, составившие континентальный конгресс, убеждали друг друга воевать, а в богатейшей колонии Нью-Йорк окончательное решение, очевидно, не принято. Что делать? Вашингтон принял также соломоново решение - он поручил следовавшему с ним из Филадельфии генерал-майору Ф. Шайлеру, родом из Нью-Йорка, остаться в городе и присматривать за губернатором. Если слуга короля посмеет вооружать лоялистов, испросить разрешение континентального конгресса на его арест. То было первое серьезное решение главнокомандующего, делегировавшего свои полномочия другим. Покончив с щекотливым делом, Вашингтон без лишней шумихи ускользнул из города, чествовавшего губернатора.
Вечером 2 июня он, наконец, соединился с армией. История умалчивает о деталях встречи, что всегда не менее многозначительно, чем подчеркнуто восторженное описание. Оно и понятно - вирджинец не мог вызвать горячих чувств у тех, что после Банкер-Хилла уже считали себя ветеранами. Ополченцы Новой Англии с опаской смотрели на богача с Юга, пресловутого рабовладельца. Дисциплина в понимании военного отсутствовала - офицер, в прошлом парикмахер, охотно обслуживал собственных солдат, другой - повар, засучив рукава, самозабвенно стряпал. С введения дисциплины и начал Вашингтон. Главнокомандующий разжаловал нескольких офицеров, в том числе полковника, за трусость при Банкер-Хилле, других - за воровство. Военный суд заседал почти непрерывно - виновные получали до 40 плетей, выставлялись у позорного столба, изгонялись из армии. Предложение Вашингтона увеличить наказание с библейских 39 плетей до 500 континентальный конгресс не утвердил. Увесистые удары по спине и ягодицам показали, кто хозяин.
Чтобы не затеряться среди генералов, Вашингтон за три шиллинга приобрел широкую голубую перевязь, отныне пересекавшую его грудь. В письмах друзьям он с отвращением писал о подчиненных ему войсках, в первую очередь о так называемых офицерах, которые, нашел Вашингтон, "в общем, самые равнодушные люди, каких я когда-либо встречал". Что до солдат, "то при приличных офицерах они будут неплохо сражаться, хотя все они в высшей степени мерзки и грязны". Вашингтон принял командование, воодушевленный в духе стоиков высокой целью спасти родину. Оглядевшись, он, вероятно, не нашел никого в лагере, кто мог бы соперничать с ним в бескорыстном служении Америке. "Несмотря на всевозможные общественные добродетели, приписываемые этим людям, - писал он в другом письме, - нет другой нации под солнцем (из известных мне), которая так бы поклонялась деньгам, как эта". Вирджинскому аристократу, умевшему, впрочем, прекрасно считать, был отвратителен дух плоской, копеечной наживы, который он усматривал у уроженцев Новой Англии. Ибо, скажем, пресловутый офицер-парикмахер брил своих солдат не из высших соображений товарищества, а за плату и ради сохранения клиентуры. Никто не ожидал, что война будет продолжительной.
Вашингтон бился за то, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок, по его словам, в "беспорядочной толпе". Сославшись на свой военный опыт, пусть двадцатилетней давности, главнокомандующий стал пропагандировать его: "Дисциплина - душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем". Но какова конечная цель дисциплины, какой вид должна была принять армия по замыслу Вашингтона? Европейская военная доктрина XVIII века недвусмысленно указывала: дисциплина - главный, если не единственный побудительный мотив солдат сражаться.
Послушание в армиях европейских монархов вбивалось палками, свирепым военно-полевым законодательством. Солдат шел на врага, строго сохраняя свое место в линии, ибо знал - непослушание означает верную смерть, которой он, естественно, предпочитал превратности сражения. Чтобы воспитать солдата в XVIII веке, обычно требовалось не менее двух лет зверской казарменной муштры. Между офицерским корпусом, являвшимся сколком тогдашнего жесткого сословного общества, и солдатской массой лежала непроходимая пропасть. Солдаты всегда находились под бдительным оком офицеров, стоит ослабить надзор, как солдаты просто-напросто дезертируют.
Стратегия и тактика европейских войн XVIII столетия породили профессиональные, зачастую наемные армии. Они встречались на поле боя, сражались по определенным правилам, и, как бы ни был высок процент потерь в бою, боевые действия в подавляющем большинстве носили ограниченный характер. Преследование разбитого врага обычно не доводилось до конца, ибо победитель подверг бы опасности свою армию. Разбив ее на мелкие отряды, он попросту рисковал тем, что солдаты вне рамок железной дисциплины разбегутся. Монархи отнюдь не стремились к поголовному истреблению армий друг друга, ибо в в таком случае им бы пришлось оставить излюбленную забаву - войну. Отсюда широко распространенный обычай обмена пленными.
Что до самих боевых действий, то они велись чрезвычайно упорядоченно - только в теплую погоду, к декабрю армии становились на зимние квартиры. Армии, помимо сражений в открытом поле, старались перехватить коммуникации друг друга, осаждали ключевые крепости. Населенные пункты, как правило, не разрушались, ибо какой смысл монарху приобретать разоренную провинцию? Снабжение войск обеспечивалось подготовкой на театре войны крепостей п магазинов, реквизиции у населения строго контролировались. Это было вызвано отнюдь не желанием пресечь разбой и грабежи, они отмечали путь тогдашних армий. Дело в другом - официальное одобрение таких действий повело бы к тому, чего больше всего опасалось командование, - разложению войск, подрыву дисциплины, По аналогичным причинам военачальники XVIII столетия крайне неодобрительно относились к партизанской войне, опасаясь сверх того вызвать бунт "черни".
Вашингтон не мог не разделять описанных взглядов на вооруженную борьбу и методы ее ведения. Было бы легкомысленно приписывать ему глубокое понимание народной войны, которая развернулась в ходе Американской революции. И если, разумеется, с большими оговорками, можно так оценивать некоторые кампании войны за независимость в США в 1775-1783 годах, то произошло это не в результате тонких расчетов главнокомандующего, а вопреки его ясно выраженной воле. "Стратегия конгресса и Вашингтона, - замечает современный английский исследователь Э. Райт, - отнюдь не поощряла партизанской войны и оправданно сбрасывала со счетов лоялистов. Большая и дисциплинированная континентальная армия должна была связать англичан, "нависнув над ними, подобно орлу над добычей, готовая нанести сокрушительный удар при удобном случае". Это давало надежду на скорую победу, которая отвратила бы опасность решительного отделения от Англии". Так представлялось дело руководителям Американской революции в начале войны за независимость, и этот взгляд нашел выражение в строительстве континентальной армии.
Простейшая задача - выяснить, сколько, собственно, солдат насчитывалось в армии, - доставила массу хлопот главнокомандующему. В первом же приказе он потребовал от командиров полков сообщить численность вверенных им частей. Несколько дней продолжалась волокита, пока Вашингтон не пригрозил "драконовскими мерами". Итог оказался неутешительным - 16,6 тысячи человек, из них 9 тысяч уроженцев Массачусетса. Еще хуже - солдаты вербовались на очень короткий срок, по истечении которого никакие угрозы или посулы не могли удержать их в рядах армии. Текучесть кадров доставила Вашингтону массу огорчений. К 10 декабря 1775 года, например, большая часть коннектикутцев, несмотря на апелляцию к их патриотизму, разошлась по домам. Их товарищи по оружию, улюлюкавшие вслед дезертирам, спустя три недели также сложили пожитки и отправились восвояси.
Когда наступил 1776 год, у Вашингтона осталось примерно 8 тысяч солдат, а по его предположению в Бостоне было 12 тысяч англичан (в действительности - 8,5 тысячи). План, предложенный Вашингтоном и горячо одобренный конгрессом, - иметь армию, насчитывавшую 20 372 человека (26 полков, один полк стрелков и артиллерийский полк), - остался на бумаге.
В тогдашней Америке, громадной, слабо обжитой стране, оказалось невозможным вести войну только силами армии, построенной по европейскому образцу, как бы страстно Вашингтон этого ни желал. Постепенно вооруженные силы восставших колоний развернулись несколько по-иному. В каждом округе было свое ополчение, собиравшееся в случае опасности. Части ополченцев, конечно, не могли оказать эффективного сопротивления английской армии, но они выполняли чрезвычайно важную роль - Вашингтон всегда был в курсе последних передвижений неприятеля. Ополченцы держали англичан в состоянии постоянной тревоги. Высоко оценивая их роль, Вашингтон, тем не менее, твердо придерживался образа действия, избранного им с самого начала, - не допускать смешивания ополченцев с континентальной армией. Они, по мнению главнокомандующего, несли с собой опаснейшие бациллы анархии и разложения.
Отборные части - в начале войны стрелки, а позднее легкая пехота - могли при необходимости задержать, но не остановить английские войска. Они наносили внезапные, обычно ночные удары. А ядром вооруженной мощи оставалась вся континентальная армия - предмет постоянных забот Вашингтона. Так защищалась Американская революция.

Революция начинается. Современный американский рисунок 'Раскаяние тори'
Отступления от структуры, принятой в европейских армиях, шли рука об руку с изменениями методов вооруженной борьбы. Хотя Вашингтон никогда так и не утратил надежды, что ему удастся повести войну, как было принято в XVIII веке, практика скоро научила его, что в революции армия не только вооруженная сила, но и инструмент пропаганды. Концепция солдата-гражданина получила дальнейшее развитие, хотя едва ли сам главнокомандующий был от нее в восторге.
Но приходилось постоянно помнить об общей обстановке. "Нужно всегда считаться с настроениями народа, - учил он своих военачальников, - если это не нанесет серьезного ущерба нашим действиям. Это особенно верно для той войны, которую мы ведем, где моральный дух и готовность к самопожертвованию должны в значительной степени заменить принуждение". Было бы глубоко ошибочно вывести отсюда великую приверженность вирджинского плантатора к революционным методам борьбы. Их Вашингтон опасался, пожалуй, не менее чем неприятеля.
Он отлично видел, что полное торжество концепции солдата-гражданина приведет к самым прискорбным последствиям для имущих слоев. На возможности солдата-гражданина Вашингтон смотрел с узкопрофессиональной точки зрения - только с позиции увеличения ударной мощи армии. Он отнюдь не хотел, чтобы война приняла характер глубокого социального переворота, то есть переросла в подлинную революцию.
Отсюда его постоянные настояния в пользу единства в лагере американцев, требования помнить, что крайности в ту пли другую сторону пагубны. Анализируя позицию Вашингтона, его новейший биограф Д. Флекснер замечает: "Всегда существовала опасность, что произойдет размежевание в борьбе - восстание превратится в дело низших классов и будет направлено в равной степени против богачей-американцев и богачей-англичан - и состоятельные бросятся искать защиту у армии министерства". Вашингтон стремился предотвратить это всеми силами. Он писал: "Мы должны избежать рифов, на которых наш корабль развалится на части. Именно здесь таится величайшая опасность, и я буквально содрогаюсь, когда думаю о ней. Только отсутствие единства может погубить наше дело. Все рухнет, если величайшая осмотрительность, сдержанность и умеренность не восторжествуют среди нас и не станут главными принципами борющихся сторон".
С этой точки зрения всемерное укрепление континентальной армии было основным орудием достижения искомых целей. Со всеми допущениями, диктовавшимися тогдашней обстановкой, армия в руках Вашингтона оставалась строгой иерархической организацией, причем офицерский корпус был привилегированной кастой. В этом отношении Вашингтон не шел ни на какие уступки - между офицерами и солдатами должно быть резкое различие. А офицеров по штатам полагалось очень много. Полк состоял из 720 человек, делившихся на 8 рот. В роте из 90 человек было 76 рядовых и 14 офицеров и сержантов. Грубо говоря, на пятерых солдат приходился офицер или сержант.
Офицеры многотысячного сборища под Бостоном никоим образом не могли удовлетворить Вашингтона. В августе 1775 года он с отвращением писал Г. Ли: "Одна из труднейших задач, когда-либо встававших в моей жизни, - заставить этих людей поверить, что существует или может существовать опасность, пока вражеский штык не уткнется им в грудь. Это не выдающаяся удаль, а скорее следствие необъяснимой глупости низших классов, которая, поверь мне, преобладает и среди офицеров-мас-сачусетцев. Они на одно лицо с рядовыми, что доставляет мне массу трудностей, ибо совершенно невозможно заставить таких офицеров выполнять приказы. Они только заботятся о том, чтобы снискать доброе расположение избравших их рядовых, на чьи улыбки они готовы положиться".
Вашингтону был нужен другой офицер. Он внушал континентальному конгрессу: "Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно поставленными начальниками над собой... Только состоятельные джентльмены, выходцы из достойных семей, обычно полезные офицеры". Он добился от конгресса повышения жалованья офицерам, дабы придать им "должный вид" и обеспечить нужную дистанцию между ними и солдатами.
Нехотя воздавая должное солдату-гражданину, Вашингтон, тем не менее, указывал континентальному конгрессу, что боеспособность рядовых определяется тремя факторами: естественной храбростью, жаждой вознаграждения и страхом перед наказанием. "Трус, - настаивал Вашингтон, - знающий, что в случае дезертирства его ждет смерть, пойдет на риск в бою". Наблюдая, как происходит вербовка солдат, Вашингтон не строил ни малейших иллюзий относительно человеческого материала, из которого формировалась армия. "Такое отсутствие общественного долга и добродетелей, - восклицал он, - такое низкое торгашество и изобретательность по части подлых штучек, лишь бы что-нибудь урвать... такой грязный дух наемничества пронизывает их всех, что меня не удивит никакая катастрофа".
Таковы, в самом грубом изложении, взгляды главнокомандующего на собственные войска. Удержать солдат в повиновении он считал возможным только в стальных тисках дисциплины. Перед солдатской массой Вашингтон представал бессердечным военачальником.
Другое лицо Вашингтона было обращено к офицерскому корпусу, особенно к его верхушке, тем, кто, по воззрениям вирджинца, достойно носил офицерский мундир, он беспредельно доверял, возлагая на них самые различные функции. В приказах по армии строжайшим образом запрещались азартные игры, сурово преследовалось пьянство: "Пресечь мерзкую практику потребления дневного рациона рома в один присест, поручив сержантам следить за тем, чтобы ром разбавляли водой... тогда напиток не пагубен, а весьма освежает и полезен".
Но армией командовали отнюдь не унылые трезвенники или кисляи, как говаривали в XVIII веке. Рассказывают, что во время задушевной беседы у Вашингтона ударили барабаны, ухнула сигнальная пушка - тревога! Военачальники вскочили, генерал Грин закричал, что не может найти своего парика. "Взгляните в зеркало, сэр!" - пробасил прославившийся хладнокровием генерал Ли. Грин бросился к зеркалу и увидел, что пропавший парик на его голове. Он вздохнул с облегчением - привычный вид, и тут же изумился - в зеркале смеялись два Вашингтона!..
За столом Вашингтона вино лилось рекой, он находил, что благородный напиток "оживляет" беседу. То, что для рядового было тягчайшим грехом - крепкая выпивка, - для джентльмена почиталось обычным развлечением. Двойной стандарт в оценке людей в зависимости от их социального положения был принят в XVIII веке. Вашингтон, конечно, не обгонял время.
Искореняя сквернословие среди рядовых, насаждая чистоту нравов, главнокомандующий либерально относился к слабостям джентльменов. Прослышав, что офицер в преклонных годах, обезумев от любви, женится на молоденькой девушке, Вашингтон дает отеческий совет, подобающий Отцу Страны (письмо написано, когда его уже начали признавать за такового): "Рад узнать, что мой старый знакомый полковник Уорд все еще подвержен сильным страстям. Я не буду относить смелость его предприятия за счет вспышки чувств, ибо в годы военной службы он научился отличать ложную тревогу от действительного маневра. Милосердие побуждает меня предположить, что как осмотрительный офицер он рассчитал свои силы, проверил оружие и боеприпасы, перед тем как приступить к делу. Однако если он, игнорируя все это, очертя голову бросится в бой, я бы посоветовал ему провести первую атаку на его Дульцинею из Тобосо с такой энергией, чтобы оставить глубокое впечатление, если оно не может долго продержаться или часто возобновляться".
Разве мог помыслить рядовой, насиловавший себя, чтобы не заснуть на посту, что главнокомандующий способен на такие советы? Разве не Вашингтон, поминая его добрым или недобрым словом в зависимости от склонностей, размышляли солдаты, распорядился изгнать из лагеря женщин легкого поведения? А его отеческая забота о приличии! Узрев, что солдаты купаются голыми на виду, Вашингтон страшно возмутился. Генерал-адъютант главнокомандующего Д. Рид огласил по армии приказ: "Генерал категорически запрещает всем заниматься этим на мосту в Кембридже или около него. Отсюда поступили жалобы, что многие, утратив приличие и стыд, носятся нагими по мосту, в то время по нему следуют прохожие и даже дамы общества. Поступающие таким образом чуть ли не хвастают своим постыдным поведением".
* * *
Стан континентальной армии под Бостоном довольно быстро приобрел военный вид. Полковой капеллан У. Эмерсон, дед Р. Эмерсона, записывал: "В лагере происходят великие изменения, вводятся порядок и дисциплина. Новые хозяева, новые законы. Каждый день генералы Вашингтон и Ли на передовой. Между офицерами и рядовыми проводится большее различие. Каждого заставляют знать свое место, в противном случае его вяжут и дают тридцать-сорок ударов в зависимости от тяжести проступка. Тысячи людей работают ежедневно с четырех до одиннадцати часов утра. Просто удивительно, как много делается".
Начали прибывать подкрепления - роты из Мэриленда, Вирджинии и Пенсильвании. Всеобщее восхищение вызвали бравые вирджинские молодцы Моргана, пришедшие прямо с границы (1000 километров за 21 день), в кожаных рубахах, мокасинах и с кентуккскими ружьями. По приказу Вашингтона прекратились добрые беседы часовых на передовых постах с неприятельскими солдатами, теперь с линий укреплений настороженно вглядывались в сторону Бостона. Охотники начали подстреливать англичан как дичь, особенно метя в офицеров. Попадание в "омара" или "ростбиф" (по цвету красных мундиров) вызывало здоровый смех американцев.
Охотники становились героями среди солдат и сущим наказанием для Вашингтона. Постоянные выстрелы без приказа на передовой, не говоря уже об обычае охотников силой освобождать из-под замка товарищей, угодивших под стражу, приводили главнокомандующего в бешенство. Он страстно молил бога, чтобы славные земляки, наконец, убрались из лагеря, ибо вбиваемая плетьми дисциплина подрывалась удальцами на глазах.
Американцы и англичане под Бостоном не горели желанием помериться силами. У Вашингтона обнаруживались все новые нехватки. Так, выяснилось, что вместо 348 баррелей (мера объема, равная 119,24 литра) пороха, значившихся на складе, армия имела только 36. По девять выстрелов на мушкет! Вашингтон в отчаянии распустил слух, что пороха некуда девать - дескать, есть 1800 баррелей, и обратился с паническим письмом к конгрессу - раздобыть где угодно пороха. А солдатам велел изготовлять пики. Бессонными ночами он прислушивался - не загремят ли барабаны, возвещая неприятельскую атаку, последствия которой "страшно даже представить... армии и стране придет конец".
Порох, наконец, подвезли, а враг не шел. Вашингтон и конгресс терялись в догадках. Они считали, что у Банкер-Хилла американцы все же потерпели поражение, ибо сдали позиции. Если бы американцы могли проникнуть на военные советы у английского генерала Хоу, сменившего Гейджа! Англичане, не вдаваясь в тонкости, кто победил, помнили о чудовищных, неоправданных потерях полков его величества от рук "оборванцев". Памятуя, что подкрепления нужно везти через Атлантический океан, Хоу не рвался в бой. Англичане пока стали на зимние квартиры в Бостоне, а в штабе обдумывали, где основать в дальнейшем базу для операций, ибо находили город невыгодным в стратегическом отношении.
Хоу снискал благорасположение прелестной Бетси Лоринг, которым пользовался без помех, ибо ее достойный супруг был по уши занят: с благословения англичан он конфисковывал дома патриотов и продавал их с аукциона. В городе было голодновато, англичане сидели на солонине, некоторых подкосила болезнь. Офицеры осажденного гарнизона развлекались, как могли - ставили любительские спектакли, в которых изображался главарь разбойников Вашингтон в лохмотьях, в громадном парике и с длинной ржавой саблей на боку. Шутники направили приглашение Вашингтону на представление, в заключение которого обещали ему "доставить удовольствие" - повесить.
Натуре Вашингтона не была свойственна бездеятельность. Он настойчиво испрашивал разрешения у конгресса на штурм Бостона. По политическим мотивам ему отказали - в Филадельфии опасались довести дело до полного разрыва с метрополией. Он созывал бесконечные военные советы - генералы также высказывались против, цепенея при мысли, что придется схватиться с английским войском. Главнокомандующий склонился перед их мнением, на военных советах он завел демократию - решения принимались большинством голосов. Вероятно, это было не следствием нерешительности Вашингтона, как иногда склонны предполагать, а объяснялось нежеланием спорить. Он прекрасно видел, что уроженцы Новой Англии и так с большой неохотой подчиняются набобу с Юга. Ссориться с ними было бы опасно как для дела, так и для собственного положения. По аналогичным причинам Вашингтон проявлял величайший такт и в сношениях с конгрессом.
Вознесенный на пост главнокомандующего континентальной армии, Вашингтон по-прежнему считал, что оценен сверх его способностей. "Я не военный гений, - писал он, - и не офицер с большим опытом", и если "буду действовать только по собственному суждению и своей воле", то неудачи сделают меня "объектом всеобщего недовольства". Много спустя Вашингтон, оглядываясь на ранний период своей полководческой деятельности, написал - если бы тогда он мог предвидеть будущее, "то все генералы на земле не убедили бы меня, что уместно воздержаться от штурма Бостона". Опыт пришел с годами.
Конгресс и генералы не допустили штурма Бостона. Вашингтон, стесненный на суше, развернул действия на море. Испросив разрешения конгресса, он вооружил шесть судов, которые со 2 октября 1775 года (рождение флота США) занялись каперством в прибрежных водах, иногда перехватывая английские транспорты. Флотоводческие увлечения Вашингтона судовладельцы-патриоты поддержали с величайшим энтузиазмом. Старое ремесло - пиратство - отныне объявлялось борьбой за бесценную свободу Америки.
Они взяли несколько ценных призов, доставив континентальной армии мушкеты, порох, пули и военные припасы. Вирджинец очень скоро понял, что стоит у истоков американской морской мощи. "Беды и огорчения, - признался он, - которые принесли мне экипажи всех без исключения вооруженных судов, просто неописуемы. На свете кет худших разбойников". Каждый раз, когда "наши мерзавцы каперы" возвращаются в порт, они "готовы бунтовать, если только им не разрешают своевольничать". В 1776 году Вашингтон с искренним облегчением передал контроль над "флотом" военно-морскому комитету конгресса, и с тех пор он "не имел ничего общего с морскими делами".
Каперы усилили огневую мощь армии Вашингтона. С захваченного британского брига была снята большая бронзовая мортира весом более тонны. С восторженными воплями орудие потащили на позиции, окрестили "конгресс", в знак чего генерал Путман разбил об него бутылку рома. Английские солдаты так и не услышали голоса "конгресса" - ретивые патриоты забили неслыханный заряд, и мортира при первом выстреле разлетелась на куски.
Вашингтон, крепко выругавшись, поручил артиллерийское дело спокойному бостонскому книготорговцу Г. Нок-су. По той причине, что Нокс у себя в лавке начитался военных книг, он был произведен в полковники. Нокс отправился в форт Тикондерога и с превеликими трудностями доставил к весне 1776 года под Бостон 59 трофейных английских орудий.
Англичане оставались хозяевами на море. Они где им заблагорассудится высаживали десанты, запасались продовольствием, а зачастую грабили приморские городишки. К Вашингтону потоками шли просьбы о защите. Их было так много, что оставалось только подтверждать получение. Наиболее настойчивые просители слали обращение за обращением, особенно отличился губернатор Коннектикута, доискивавшийся причин, почему главнокомандующий не защитит родных берегов. Вашингтон, наконец, ответил: "Если ко всем трудностям и заботам моего поста еще добавить необходимость разъяснять причины, по которым отдаются приказы, тогда главная забота (осада Бостона) по сравнению с этим окажется самой малой..."
Отделаться от просителей оказалось нетрудным, но набеги англичан учащались - они начали обстреливать и сжигать города у моря. Вашингтон, конечно, был обеспокоен. Много для защиты сделать не удалось, приходилось полагаться на временные меры. Он не исключал, что злобствовавший губернатор Вирджинии Данмор, укрывшийся на английском военном корабле, попытается подняться по Потомаку и обрушится на Маунт-Вернон. Лоялисты под водительством Данмора уже продемонстрировали, на что они способны, - небольшие отряды с корабля разбойничали по побережью.
Вашингтон позаботился о том, чтобы Марта Кастис уехала из Маунт-Вернона в безопасное место, "хотя я едва ли думаю, - писал он, - что лорд Данмор может вести себя столь низко и не по-мужски, чтобы помышлять о захвате г-жи Вашингтон в качестве мести". Но в таких делах нельзя было полагаться на случай, тем более что ожесточение нарастало с обеих сторон. Некий тайный агент был направлен в Бостон для сбора сведений о неприятеле. Вашингтон положил ему плату 333 доллара (напоминание о библейских тридцати сребрениках, выданных Иуде!). Агент донес, что американцы, взятые в плен англичанами, страшно бедствуют. Это послужило поводом для обмена письмами между Вашингтоном и английскими командующими, которые оправдывали нарушение военной этики, ссылаясь на то, что все американцы - мятежники. Англичане наотрез отказались признавать какие-либо привилегии за пленными офицерами континентальной армии, заперев их в грязную тюрьму вместе с уголовниками.
Это разбередило старые раны Вашингтона - англичане верны практике, сводившей его с ума в молодые годы: не признавать офицеров местного производства. Письмо Вашингтона, подведшее итог переписке по поводу обращения с пленными, пылало давним негодованием: "Вы презираете чины, полученные из иного источника, чем ваш. Но я не могу признавать иного, более почетного, чем честный выбор мужественного и свободного парода, а это источник чистейшей воды, основа основ любой власти". Отныне, предупредил Вашингтон, обращение с пленными англичанами будет основываться на принципах взаимности.
Осень и зима 1775 года ознаменовались самой крупной воинственной вылазкой американцев за всю войну за независимость. Они пошли завоевывать Канаду, жители которой проигнорировали пламенные призывы конгресса и по-доброму не захотели стать четырнадцатой восставшей колонией. Вашингтон с величайшей радостью поддержал идею похода, выдвинутую конгрессом. Вероятно, помимо прочего, и потому, что удалось пристроить к делу вирджинских молодцов Моргана, отравлявших ему жизнь. Две колонны американских войск под командованием генерала Шайлера и полковника Арнольда должны были захватить Монреаль и Квебек, приобщив местных жителей к прелестям свободы.
Вашингтон, полагая, что освободительный поход удастся, наставлял лихих военачальников: "Сражаясь за свою свободу, мы должны быть осмотрительными и не нарушать свободу совести других, всегда памятуя, что только бог судья над сердцами людей". Жестокости любого рода "опозорят американское оружие и вызовут возмущение против нас со стороны наших товарищей - подданных".
Американцы в ходе кампании в Канаде претерпели большие лишения и преодолели громадные трудности. Войска совершили длительные марши по бездорожью, -овладели Монреалем, но не смогли взять Квебек и, следовательно, потерпели неудачу. Арнольд, раненный в бою, прославился на всю Америку. Вашингтон выразил свое мнение о нем так: "Достоинства этого джентльмена велики, и я от всего сердца надеюсь, что судьба отметит его как одного из своих любимцев". Неистовый Морган с остатками отряда своих патриотов в мокасинах сдался в плен.
Канадская кампания, в которой в общей сложности принимало участие восемь тысяч американцев, летом 1776 года окончилась унизительным поражением.
Успех под Бостоном, однако, с лихвой перекрыл горечь поражения в лесах Канады. 3-4 марта по приказу Вашингтона все 59 пушек, притащенные по бездорожью Ноксом из Тикондероги, были водружены на высотах Дорчестер. Бостон и гавань оказались в пределах орудийного огня. Хоу созвал военный совет. Англичане и не помышляли о штурме высот, кровавый призрак Банкер-Хилла стоял у них перед глазами. Было решено оставить Бостон и перебросить армию в Галифакс, где переформировать ее.
Известия о том, что американцы захватили и укрепляют высоту Нук-Хилл еще ближе к Бостону, заставили англичан поторопиться. Войска поспешно грузились на суда, лишнее имущество и даже десятки орудий были оставлены. Английские генералы и адмиралы в глубочайшем смятении ожидали, что вот-вот американцы начнут бомбардировку города, и торопились убраться. Артиллерия континентальной армии зловеще молчала - Хоу и его штаб так и не узнали, что у противника не было пороха для сколько-нибудь продолжительной стрельбы.
17 марта последние английские солдаты взошли на борт корабля. Еще десять дней 170 английских судов, принявшие гарнизон и свыше тысячи лоялистов, бежавших из Бостона, стояли на внешнем рейде. Это заставило Вашингтона теряться в догадках - быть может, англичане прибегли к военной хитрости, быть может, собираются нанести удар по Нью-Йорку. Он никак не мог допустить, что враг оставил свою цитадель - Бостон. Только 27 марта, когда английский флот поднял паруса и ушел, Вашингтон успокоился. Теперь можно было в безопасности оценить размеры победы.
Описывая увиденное в городе, Вашингтон отметил: "Уничтожение припасов в лагере у Данбара после поражения Брэддока бледнеет по сравнению с тем, что произошло в Бостоне". Англичане убирались из города с "быстротой, которую просто невозможно представить себе", брошены тридцать тяжелых орудий, сотни мушкетов, военные фуры, порох и многое другое. "Бостон, - заключил Вашингтон, - был почти неприступен, были укреплены все подступы". Американцам, конечно, не могло прийти в голову, что Хоу стратегически давно считал невыгодным удерживать город и только ожидал транспорта, чтобы эвакуироваться. Орудия на высотах Дорчестер, которые английский командующий принял за предвестник штурма, разве что поторопили его с выполнением своего замысла.
Заняв город, континентальная армия принялась, в свою очередь, притеснять немногих оставшихся лоялистов, воздавая им за преследования патриотов при англичанах. Хотя крайние эксцессы были чрезвычайно редки, а по приказу Вашингтона армия взяла под охрану собственность бежавших тори, лиц, заподозренных в сочувствии к англичанам, ждала незавидная участь. Их раздевали, мазали в дегте, вываливали в перьях и верхом на шесте выпроваживали из города. Дома самых ненавистных предали огню. Имущество лоялистов пошло с молотка на аукционе. Патриоты получали не только моральное, но и материальное вознаграждение.
Овладение Бостоном подняло дух защитников революции. Коль скоро до англичан, пока убравшихся с территории восставших колоний, добраться было мудрено, патриоты расправлялись с ненавистными сторонниками короны. Суровость в наказании противников за их политические взгляды была соразмерна оценке силы континентальной армии патриотами. От Мэна до Южной Каролины лоялистов забрасывали тухлыми яйцами, заставляли, стоя на коленях, поносить короля и министров или под ударами плетей прогоняли через улицы.
Главнокомандующий, выражая дух времени, высказался в том смысле, что неплохо было бы вздернуть самых отвратительных прислужников "министерства", затесавшихся в апостольскую общину патриотов. Тем самым был бы дан полезный урок всем презренным. Но все же его отношение к бостонцам, решившим разделить судьбу войск Хоу и покинувшим город на английских судах, более показательно, чем кровожадные призывы вешать. Описывая их уход из города (а бежали самые состоятельные, принадлежавшие к тому же кругу, что Вашингтон в Вирджинии), он заключил: "Один или двое совершили то, что должны были бы сделать давным-давно многие из них, - покончили с собой. Со всех точек зрения не было более несчастных, чем являются ныне эти презренные твари". Они положились на мощь Британии и обманулись в ней. "Несчастные! Введенные в заблуждение смертные! Не лучше ли объявить всеобщую амнистию и завоевать этих людей великодушным прощением?"
Вопрос носил чисто риторический характер и не подобал по положению "его светлости", от него конгресс и страна ждали новых ратных подвигов во имя драгоценной свободы. Вашингтон получил благодарность за Бостон от конгресса, который постановил отчеканить в честь славной победы золотую медаль в Париже. Гарвард воздал должное в достойной ученых форме, присудив Вашингтону степень доктора права. Художники малевали его портреты, а поэты сочиняли хвалебные оды.
В Америке объявился собственный военный гений, страна обрела полководца. Нет ни малейших сомнений в том, что поздней весной 1776 года Вашингтон уверовал в свою счастливую звезду.
Генерал Вашингтон отвоевал Новую Англию, и конгресс на гребне успеха счел возможным распоряжаться освободившимися частями континентальной армии. Нокса отправили в Ньюпорт укреплять город, Ли - на юг, командовать в Вирджинии, подкрепления пошли в Канаду. "Это значительно ослабило наши силы", - пожаловался Вашингтон в письме брату. Публично он не возражал, всегда признавая верховенство гражданской власти над военной.
Он ожидал, что англичане нанесут сильнейший удар, скорее всего, высадившись в Нью-Йорке. Туда Вашингтон и погнал армию, озаботившись новым укреплением дисциплины, в чем, как уже объяснялось, по его разумению, и состояла основа боевого духа. За проступки - от игры в карты до самовольной отлучки - теперь полагалось 100-300 ударов плетью, иногда предписывалось: "По получении последних пятидесяти ударов спину наказуемого хорошо промыть водой с солью". Чтобы крепче помнили и злее были.
* * *
За десять с небольшим лет до описываемых событий во время Семилетней войны Англия выставила армию в 300 тысяч человек. Для подавления "бунта" американских колоний никак не могли собрать войско в 55 тысяч человек, на которое отпустил средства парламент. Хоу для кампании 1776 года требовал 50 тысяч человек.
Георг III, премьер Норт и министр по делам Америки лорд Джермен - трое, вознамерившиеся вернуть короне заатлантические владения, столкнулись с оппозицией к войне в собственной стране. В парламенте звучали отвратительные для слуха монарха речи вигов - лорда Чатама (У. Питта), Бёрке, Фокса и других. Их было мало, но они громко оплакивали действия короля, подрывавшего самые основы Британской империи. Как водится в Англии, то была оппозиция его величества - виги стояли за главенство английского парламента, однако указывали, что пробил час заменить узы имперских связей содружеством наций. Практической помощи "бунтовщики" по ту сторону Атлантики от них получить не могли, единственное, чего можно было ждать от вигов, - объективное признание справедливости их дела с парламентской трибуны.

Карикатура вигов. Министры короля собираются зарезать гуся - американские колонии, - несущего золотые яйца. 1776 год.
Этого было, впрочем, немало. Лучшие британские военачальники и флотоводцы, отклоняя предложения короля воевать с американцами, ссылались и на парламентариев. То, что кощунственные для Георга III речи звучали в Вестминстере, неслыханно затруднило вербовку солдат. Очень скоро выяснилось, что в Англии потребной армии не собрать. В народе смотрели на поход, затевавшийся королем, как на братоубийственную войну. Тогда Георг III по обычаям века решил купить наемников: В сентябре 1775 года он обратился к российской императрице с просьбой продать 20 тысяч казаков, о воинском мастерстве которых понаслышались и в далекой Англии.
Обращение из Лондона изрядно повеселило российский императорский двор. Георгу III был послан изысканно-вежливый отказ. Он возмутился - императрица "не проявила той теплоты, которой я ожидал от нее, она даже пренебрегла приличием и не написала ответ собственноручно". Король напрасно гневался на императрицу, будто бы не желавшую лично вникнуть в дело. Екатерина II в эти дни писала (собственноручно!) одной из своих приятельниц в тоне милой светской болтовни: "Английский король - превосходный гражданин, добрый супруг, отец и брат. Такой человек не может остаться равнодушным к смерти сестры, хотя бы ничего не стоящей, и я готова держать пари, что потеря сестры причинила ему большее горе, нежели поражение его армии в Америке. Вы знаете - его прекрасные подданные тяготятся им, и даже часто". Императрица в заключение выразила сердечное убеждение, что еще при ее жизни Америка отделится от Европы.
Проученный в России, Георг III обратился к тем, кого он знал, - немецким князькам. Они, презрительно заметил Бёрке, "жадно втянули ноздрями трупный смрад прибыльной войны" и охотно продали Англии солдат. Кузен Георга III князь Брунсвик Люненбургский продал 4300 человек. За ним последовали другие - немецкие правители содержали дворы и были чадолюбивы. Князь Ханау имел от разных женщин свыше 70 детей, а ландграф Гессен-Кассельский - около 100. Последний правитель сумел из 300 тысяч подданных собрать почти 20 тысяч солдат. Уроженцы этого ландграфства составили большинство наемников, и поэтому всех их американцы стали именовать гессенцами. В общей сложности Георг III купил в германских землях и отправил за океан 30 тысяч наемников, что обошлось Англии в 4,7 миллиона фунтов стерлингов.
Лондон не делал секрета из своих военных приготовлений, и вести о них достигали берегов Америки. Быть может, королевские министры хотели посеять панику среди восставших. Результаты получились обратные. В колониях заговорили о том, что пора рвать все связи с Англией. Собственно, терять больше было нечего, - в декабре 1775 года парламент объявил, что американские колонии больше не находятся под защитой Англии. Был санкционирован захват и конфискация американских судов в открытом море.
9 января 1776 года увидел свет памфлет Томаса Пейна "Здравый смысл", сыгравший решающую роль в повороте настроений в Америке в пользу независимости. За три месяца было продано неслыханное количество экземпляров - 120 тысяч! А жило в стране не менее трех миллионов, многие были неграмотными. Пейн целил прямо в институт монархии, то есть опрокидывал последнюю надежду лоялистов. Он знал о Георге III и прочих из первых рук - Псин приехал в Америку в ноябре 1774 года и очертя голову бросился в местный политический водоворот. Импортированные им идеи получили немедленный отклик на новой родине, где к выходу памфлета он прожил год с небольшим.
Пейн объяснил американцам, что династия английских королей, основанная Вильгельмом Завоевателем и представленная Георгом III, возникла не по воле всевышнего. "Французский ублюдок, высадившийся во главе вооруженных разбойников и воцарившийся в Англии вопреки согласию ее жителей, является, скажем прямо, весьма мерзким и низким пращуром. В таком происхождении, конечно, нет ничего божественного". Автор велеречиво обосновал справедливость отделения от Англии, причем подчеркнуто оценивал это событие в глобальных терминах и категориями меньшими, чем тысячелетия, не мыслил. "Здравый смысл" привел его в заключение к утверждениям, что американцы соорудят никак не меньше чем рай на земле. Он закончил свое внушение недавно обретенным соотечественникам весьма возвышенной тирадой: "О! Вы, которые любите человечество! Вы, кто отваживается противостоять не только тирании, но и тирану, выйдите вперед! Каждый клочок Старого Света подавлен угнетением. Свободы травят по свету. Азия и Африка давно изгнали ее. Европа считает ее чужестранкой. Англия же потребовала ее высылки. О, примите беглянку и загодя готовьте приют для всего человечества".
Читать эти строки поднявшимся против метрополии было сладостно и очень приятно. Пейн по своему разумению пытался раскрыть внутренний смысл борьбы и ее значение для истории. Вашингтон, как и другие лидеры революции, принял к сердцу "Здравый смысл". Но как военный он отвел должное место сообщенному Пейном. Коснувшись умонастроений народа, он писал 31 января 1776 года: "Еще несколько горячих аргументов типа продемонстрированных в Фалмуте и Норфолке (города, сожженные английским флотом в октябре 1775 года и январе 1776 года. - Н. Я.) в дополнение к трезвой доктрине и неопровержимой аргументации "Здравого смысла" не оставят сомнения, что отделение уместно". Спустя десять дней он добавил: "Дух свободы бьется в наших сердцах, чтобы мы могли надеть ярмо рабства, и, если ничто другое не удовлетворит тирана и его дьявольское министерство, мы преисполнены решимости порвать все связи с таким несправедливым и неестественным государством".
Да, очень могучий ветер свободы набрал силу в Америке весной 1776 года. Руководители революции горой встали за отделение от Англии, колонии должны конституироваться в независимое государство. Независимость нужна была как хлеб, как воздух, ибо светлые надежды па победу в схватке с тиранией были связаны с ожиданием помощи от давних соперников англичан - Франции и Испании. Взывавшие к оформлению бесценной свободы в государственных рамках указывали, что не удастся договориться с монархами Франции и Испании о совместной борьбе со злодеем Георгом III, если американцы не предложат в обмен гарантий и торговых преимуществ, которые может дать только независимая нация. Ясное осознание этого подстегивало патриотов. 3 марта конгресс направил в Париж Сайласа Дина договориться в помощи, вменив ему в обязанность разъяснить министру иностранных дел христианнейшего короля Людовика XVI Верженну: "Существует большая вероятность того, что колонии станут независимыми".
Колония за колонией, все чаще именовавшие себя штатами, высказывались па независимость. Решающий момент наступил 15 мая 1776 года, когда самый могучий штат Вирджиния подал голос за основание независимого государства. Конгресс формально попросил штаты образовывать собственные правительства. В июне в Филадельфии конгресс провел великие дебаты о преимуществах отделения. Т. Джефферсон, конспектируя содержание речей делегатов конгресса, подчеркнул: Вашингтон и его родной штат Вирджиния усматривали блага независимости в том, что "будут приняты немедленные меры для получения помощи со стороны иностранных государств и создана конфедерация, которая теснее свяжет колонии".
Сводя рассуждения пламенных революционеров к сути, Т. Джефферсон записал: "Только Декларация независимости в соответствии с европейскими порядками даст возможность европейским державам иметь дела с нами и даже принять нашего посла. До объявления о ней они не будут принимать наших судов в своих портах, не будут признавать законным захват нами английских судов. Хотя Франция и Испания могут ревниво отнестись к росту нашей мощи, они решат, что она будет еще больше, если к ней прибавится Великобритания, и поэтому в их интересах воспрепятствовать возникновению такой коалиции. Если они откажутся (помочь американцам. - Н. Я.), наше положение не изменится, в то время как, если мы не сделаем попытки (объявив независимость), мы так и не узнаем, помогут они нам или нет. Нынешняя кампания (после взятия Бостона. - Н. Я.) может окончиться неудачей, и поэтому нам лучше предложить им союз, пока наши дела благоприятны. Ожидать исхода кампании-значит терять время, ибо в течение лета Франция сможет эффективно помочь нам, отрезав доставку припасов из Англии и Ирландии, от которых зависят здесь вражеские армии, или введя в действие крупные силы, которыми она располагает в Вест-Индии, заставив врага защищать его владения там. Бесполезно говорить об условиях союза, пока мы не решили вступить в него. Нельзя терять времени с открытием торговли для нашего народа, которому нужны товары и потребуются деньги для уплаты налогов. Единственный промах - почему мы не вступили в союз с Францией на шесть месяцев раньше, ибо это, помимо открытия французских портов для нашего прошлогоднего урожая, дало бы возможность Франции двинуть войска в Германию и помешать тамошним князькам продавать своих несчастных подданных для подавления нас".
Хотя члены конгресса, рассуждая о месте своей страны в мировых делах, определенно хватили через край и далее со смехотворной уверенностью судили и рядили за Францию, им нельзя отказать в реализме. Практичные буржуа смотрели в корень и надеялись побить тиранию главным образом руками других, вознаградив иностранных тираноборцев и совсем недавних собственных лютых врагов - французов обещаниями различных торговых преимуществ. Впрочем, едва ли они поступились бы многим и в этой области. Мотивы стремления к независимости именно в тот, а не в другой момент сомнений не вызывают, как и то, что по соображениям того же голого практицизма представлялось совершенно невозможным объявить о них во всеуслышание.
На конгрессе, посовещавшись, поручили Т. Джефферсону сочинить Декларацию независимости со всеми приличествующими великими принципами. Его выбрали по той же причине, что и вручили жезл главнокомандующего Вашингтону, - Джефферсон происходил из сильнейшего штата Вирджиния. Тридцатитрехлетний философ, запершись в комнатушке, снятой у каменщика, засел за документ. Дело как-то не клеилось. Тогда седовласые делегаты конгресса озаботились привезти автору жену. Работа пошла веселей. 2 июля текст был представлен конгрессу, и последовало двухдневное обсуждение, в ходе которого были ликвидированы некоторые красоты Декларации. Была вычеркнута длинная филиппика насчет английского народа, который недостаточно энергично выступал против политики своего правительства в отношении Америки. Из пространного перечисления злодеяний Георга III убрали указание на то, что он препятствовал прекрасным намерениям колоний ограничить рабство и работорговлю. В этой связи той же рукой, что и писались объявления о вознаграждении за поимку бежавших рабов, со знанием дела был пригвожден к позорному столбу институт рабства.
Большую часть Декларации занимало довольно склочное и мелочное перечисление "беспрестанных несправедливостей и узурпации, имевших своей прямой целью установление неограниченной тирании над нашими штатами". Георг III соответственно обзывался "тираном, непригодным для правления над свободным народом". Философская часть документа, для которой потребовалось всего-навсего 300 слов, а она и составила славу Декларации в американской истории, провозглашала "самоочевидными" истины о том, что "все люди созданы равными, наделены богом некоторыми неотчуждаемыми правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью". Для обеспечения этих прав учреждаются правительства, каковые в случае, если они становятся тираническими, должны быть изменены или упразднены народом, имеющим право и обязанным учредить формы правления, "какие представятся народу наиболее пригодными для обеспечения его безопасности и счастья". В конце документа, "обратившись к Верховному судье мира в доказательство чистоты наших помыслов", конгресс объявил о полном разрыве с британской короной, своем праве "вести войну, заключать мир, союзы, торговать и делать все то, что могут делать по справедливости независимые государства".
4 июля 1776 года конгресс торжественно одобрил Декларацию независимости. Возникло новое государство Соединенные Штаты. Хотя пороха не хватало, гремели салюты, звонили колокола. Американцы упивались вином независимости. Декларация читалась и перечитывалась публично. Она вызывала громадное, ни с чем не сравнимое воодушевление. Имена 55 подписавших ее стали известны только 18 января 1777 года. Отнюдь не авторская скромность тому причина. На первых порах они предпочли остаться в безвестности, ибо король грозил петлей "бунтовщикам".
Последующая судьба США приковала к Декларации самое пристальное внимание. Исследователи обнаружили, что то был волнующе революционный документ. Прогрессивный американский историк Г. Аптекер нашел: "Идеи эти имели международное происхождение. Конкретно, когда речь идет об американцах XVIII столетия, одобривших их, они коренились в гуманистической и вольнолюбивой аргументации Древней Греции и Рима. Они коренились во всем блистательном Веке Разума с его титанами борьбы против догмы и авторитаризма".
Так разъясняет значение Декларации Г. Аптекер в книге "Американская революция 1763-1783 гг.", выпущенной в США в 1960 году. Почти два столетия, прошедшие с распубликования документа, позволили автору обнажить его глубокие исторические корни. Т. Джефферсон не имел этого преимущества. Вспоминая в старости об истории Декларации, всего через 49 лет после ее появления, он написал 30 августа 1823 года: "Заимствовал ли я мои идеи из книг или пришел к ним путем размышлений - не знаю. Я знаю только то, что при написании ее не обращался ни к книгам, ни к брошюрам. Я не считал, что в мои обязанности входило изобретать новые идеи, и я не выразил никаких взглядов, которые уже не были известны".
Действительно, Декларация независимости, трактовавшая о всеобщем равенстве, не предусматривала политических прав для "кабальных слуг" и бедняков вообще. Негры, конечно, также не входили в человечество, которое собирались просветить великие американские революционеры. А о женщинах и говорить не приходится. Умнейшая Эбигейл Адамс, супруга Д. Адамса, сухо написала мужу, имевшему обыкновение советоваться с ней в политических делах: "Не могу сказать, чтобы я считала вас очень великодушным по отношению к женщинам, ибо, провозглашая мир и добрую волю для мужчин, освобождая все нации, вы настаиваете на сохранении абсолютной власти над женами". Она определенно недопоняла прекрасных намерений супруга и К°, они брали за основу модель античной олигархической республики. Тосковали по ней и стремились воплотить в жизнь те самые волнующие принципы. Как говорил Э. Рандольф, американцы идут не по новой земле, "но по республиканской земле Греции и Рима".
Судья У. Драйтон из Южной Каролины был весьма приметной фигурой среди предводителей восстания. Он слыл и был радикалом. Сразу после подписания Декларации оп вывел некую закономерность существования империй. "Рим, - объявил он, - возник из самого скромного начала истал самым могучим государством под солнцем, мир склонился перед императорскими орлами... По естественным причинам и общими усилиями Американские штаты порвали с британским владычеством... Сомневаться в наши дни, что Америка разорвала узы с Британией, значит бесцеремонным образом ставить под сомнение вечную мудрость провидения... Всевышний избрал нынешнее поколение, чтобы создать Американскую империю. Благодарные, каковыми мы и должны быть, этой самой блистательной миссии, каждый из нас должен напрячь все усилия в выполнении этого важнейшего дела, которым руководит сам Иегова. Ибо при ближайшем рассмотрении очевидно, что замысел этой работы - не дело рук человеческих".
Очень вероятно, что Драйтон был не слишком тверд в истории. Он путал республику и империю Древнего Рима. Не в этом суть, главное - филадельфийские революционеры были свято убеждены, что они приступают к переделке мира по образцу, созданному ими.
Причины появления благороднейшего документа, очевидные в Филадельфии, по-иному выглядели в Европе, отделенной от Америки Атлантическим океаном. Уже по дальности расстояния европейские вольнодумцы не могли четко рассмотреть контуры "отцов-основателей" юной республики. Им представлялось, что там, в благословенной Америке, пекутся о свободе всех, не различая, что дело идет о куда более узком понятии - независимости США. Свобода, как мы видели, готовилась далеко не для всех американцев, ее блага предусматривались только для избранных и богатых. Слова Декларации вольнодумцы были склонны принять па чистое золото. Поразительное смешение понятий, открывшее путь для триумфального шествия оглушающих сентенций Т. Джефферсона по миру.
Джордж Вашингтон был далек от споров, волнений и надежд, связанных с Декларацией независимости. Для него, пребывавшего в исторические дни рождения нации в Нью-Йорке, неминуемое вторжение англичан значило куда больше, чем документ, привезенный курьером к армии 9 июля. Для военных Декларация, конечно, была находкой - все становилось на свои места: тори подлежали аресту, а американец признавался равным любому другому. 10 июля Вашингтон отдал приказ: "Конгресс был вынужден объявить объединенные колонии Северной Америки свободными и независимыми государствами. Сегодня вывести несколько бригад в шесть вечера и провести парады. Во время их внятно прочитать декларацию конгресса". Сам он остался в штабе и не вышел к войскам, беспокойно прислушиваясь к громким крикам одобрения воинов. Кажется, кричали достаточно, что и подтвердили вернувшиеся со смотра офицеры.
На следующий день Вашингтон поблагодарил конгресс за проделанную работу и выразил надежду, что Декларация независимости "чрезвычайно интересна... и обеспечит ту свободу и привилегии, в которых нам отказали вопреки голосу Природы и Британской конституции". Позднейшие, особенно иностранные, интерпретации Декларации привели бы в изумление рабовладельца и джентльмена Вашингтона.
Он сообщил конгрессу о куда более неотложных вещах: "Прибывает ополчение из Коннектикута, батальоны неполные. Они говорят, что люди заняты на сенокосе". И еще одно осложнение - солдаты, смешавшись с толпой, в едином патриотическом порыве с уханьем низвергли конную статую Георга III в Нью-Йорке. "Деяние, - огорчился Вашингтон, - походило на бунт и указывает на недостаток порядка в армии". Он выразил мнение, что уничтожение изображений тирана, пусть продиктованное чистейшими побуждениями, входит в компетенцию гражданских властей.
* * *
Для филадельфийских революционеров, взявшихся переустраивать дела планеты, было бы просто неестественно не считать себя и знатоками военных дел. Вдали от армии философы-оптимисты и языкатые адвокаты рассуждали о стратегии. О них-то и вырвалось у Вашингтона: "...с жаром героев, греющих зады у камина". Они придавали большое значение р-р-революционности войны и посему полагали возможным лишить неприятеля армии методами, которые в XX веке относят к сфере психологической войны.
Прослышав о том, что Георг III направляет в Америку гессенцев, конгресс 14 августа 1776 года принял обращенную к ним прокламацию, в которой красочно описал справедливость дела США, ведших войну лишь потому, что они "отказались обменять свободу на рабство". Конгресс обратился к наемникам: "После того как они нарушат все христианские и моральные принципы, вторгнувшись и попытавшись уничтожить тех, кто не причинил им ни малейшего вреда, избежавших, смерти или плена ждет единственная награда - вернуться под деспотизм князя, который вновь продаст их в рабство какому-нибудь другому врагу человечества". Конгресс подкрепил моральные стимулы материальными, призвав гессенцев дезертировать и селиться в США, где они бесплатно обретут благословенные гражданские права и по участку земли в 20 гектаров. Дабы призыв достиг наемников, прокламация конгресса печаталась и на обертке табачных пачек. К глубокому разочарованию сочинителей обращения, считанные гессенцы вняли ему.
В Лондоне также попытались внести политический элемент в военные планы. Пронзительные жалобы лоялистов оглушили кабинет Норта, где рассудили, что стоит красным мундирам появиться в Америке, как к ним сбегутся несчетные толпы истосковавшихся по королю. Было поэтому намечено высадить войска в Чарлстоне, Южной Каролине и Нью-Йорке, местах, где, по слухам, изобиловали лоялисты. В том, что их там было великое множество, в Лондоне не ошиблись, но грубо просчитались в воинственности тех, кто продолжал считать себя подданными Георга III. Десант генерала Клинтона в Чарлстоне 28 июня был отбит, английский адмирал Паркер не смог разрушить бомбардировкой форт. Англичане убедились, что Чарлстон нелепо, но сильно укреплен, и Клинтон с поредевшим войском отплыл к Нью-Йорку, где назревали главные события.
Стратегический план братьев - генерала и адмирала Хоу - был неплох. Они замыслили взять Нью-Йорк, великолепная гавань которого могла принять любой флот. Усилившись за счет лоялистов, англичане затем собирались двинуться на северо-запад вдоль Гудзона навстречу армии генерала Карлтона, выступавшей из Канады. Соединившись где-то в районе Олбани, королевские войска вбили бы клин между Новой Англией - центром восстания, как считал кабинет Норта, и Югом. Это, надеялись братья, а вместе с ними в Лондоне, даст возможность быстро расправиться с мятежниками.
Едва ли Вашингтон, ожидавший англичан в Нью-Йорке, знал в деталях о честолюбивом плане, но он был твердо убежден, что бой захватчикам придется дать в городе, и готовился к схватке. "Нам предстоит кровавое лето", - писал он.
Хотя некоторые трезво мыслившие в лагере восставших предлагали сжечь Нью-Йорк (оплот лоялистов!) и заблаговременно отступить в глубь страны, конгресс и Вашингтон решили защищать выдвинутые вперед позиции. Тогдашний Нью-Йорк занимал часть острова Манхэттен, который омывают Гудзон, Гарлем и Ист-Ривер. Вашингтон полагал, что прикрыть Манхэттен лучше всего, обороняя Лонг-Айленд, на котором приказал укрепить и занять высоты Бруклин. Желание быть сильными во всех пунктах привело к разделению армии на две части - одна оставалась в Нью-Йорке, другая ушла на Лонг-Айленд.
На бумаге было 28,5 тысячи человек, в действительности пригодными к бою оказалось не более 19 тысяч. В подавляющей части войска не были обстреляны, с трудом подчинялись дисциплине. Чтобы часовые не засыпали, Вашингтон, отчаявшись в других методах воздействия, приказал убрать с постов все, на чем можно было присесть. Воины, призванные защищать крупный город - в Нью-Йорке насчитывалось до 30 тысяч жителей, - не всегда были стойки перед соблазнами. У недавних фермеров глаза разбегались - винные лавки и бич армии - толпы проституток, намертво взявшие войско в кольцо. Ко всему прочему в городе кишели лоялисты, в тавернах открыто пили за здоровье короля.
Вашингтон тщетно пытался пробудить солдат к осознанию опасности, нависшей над горячо любимой родиной. Нещадно драли пьяниц и любителей общества беспутных женщин. Обнаружились дела и посерьезней - королевский губернатор колонии Нью-Йорк руководил заговором, целью которого было покушение на жизнь Вашингтона. Душегубы послали ему отравленные сливы, которые по чистой случайности генерал не съел. Смертоносное действие ядовитых плодов проверили на цыплятах - птицы тут же сдохли. Поговаривали, что в момент высадки англичан предатели откроют огонь из пушек по своим. То, что армия имела артиллерию, вне всяких сомнений, доказывало существование зловещих планов. Вашингтон распорядился арестовать и препроводить в отдаленное место мэра города, закоренелого лоялиста Мэтьюза, с сообщниками.
Он приказал предать суду военного трибунала сержанта личной охраны Хики и других, которым вменялось в обязанность убить генерала. "Других" так и не судили, а Хики в конце июня при большом стечении народа повесили. Вашингтон в приказе по армии в связи с "заговором Хики" благоразумно отвлек внимание от политических аспектов дела, указав: "Самый надежный путь" - не соблазниться на предательство, "избегать беспутных женщин, которые, по предсмертному признанию несчастного преступника, и толкнули его на путь, закончившийся преждевременной и бесславной смертью".
С конца июня англичане стали высаживаться на остров Статен у входа в гавань Нью-Йорка. Там не было американских войск, и Вашингтон в бессильной ярости получил сообщение о том, что местные жители охотно снабжают врага продовольствием, а некоторые даже вызвались служить в войсках короля. Он сокрушался, что дьявольское золото захватчиков подрывает рвение соотечественников в защите страны. Враг готовился, а солдаты континентальной армии, у которых истек срок службы, расходились по домам. Вашингтон бомбардировал Филадельфию просьбами помочь создать постоянную армию. Конгресс наконец внял голосу рассудка, учредив среди своих бесчисленных комитетов военное управление под председательством Д. Адамса и предложив премию в 10 долларов согласному подписать контракт на трехлетнюю службу в армии.
Англичане, готовя самую крупную десантную операцию XVIII столетия - у Хоу было 32 тысячи солдат, из них 9 тысяч гессенцев, - попытались по приказу министерства вести политику кнута и пряника. 15 июля к Вашингтону явился под белым флагом парламентер. После длительных препирательств главнокомандующий выслушал посланца, но так и не взял адресованного ему письма, ибо на нем значилось: "Эсквайру Джорджу Вашингтону и т. д. и т. п.", настаивая, что подобающий ему титул - "Его светлость, генерал". Выяснилось, что полномочия Хоу на ведение переговоров ограничивались обещанием прощения. На что Вашингтон резонно возразил: "Мм не совершили никаких проступков, требующих прощения, и мы всего лишь защищаем то, что считаем нашим неотъемлемым правом". На том и расстались.
Напряжение в Нью-Йорке нарастало - англичане прощупывали прочность обороны. Как-то несколько вражеских кораблей, воспользовавшись свежим ветром, вошли в Гудзон и приблизились к городу. Вашингтон был убежден, что путь по реке англичанам прегражден - на берегу заблаговременно выставили батареи. Но стоило показаться парусам английских кораблей, возмущенно писал он, как артиллеристы, вместо того чтобы броситься к орудиям, высыпали к воде "глазеть на корабли... Праздное любопытство в такие минуты делает людей низкими и презренными". Англичане обстреляли город, где вспыхнули пожары. Жители разбегались. "Крики и вопли бедняг, метавшихся с детьми, были прискорбны, они произвели нежелательное воздействие на уши и умы наших молодых и неопытных солдат", - заключил полководец. Надежды на то, что английский флот не сможет бесчинствовать в зоне огня американских батарей, рухнули, беспорядочная пальба с берега не нанесла англичанам видимого ущерба. Что и отметил Вашингтон, наблюдавший за перестрелкой в подзорную трубу.
Новые приказы по континентальной армии - поднять боеготовность и бдить, а на острове Статен росла уверенность в победе. Некий английский офицер, отпрыск аристократического семейства, пишет приятелю о буднях в предвкушении успеха: "Скромные нимфы сего острова в сладостном волнении, ибо на свежем мясе, которое мы получаем здесь, войска стали похотливы, как сатиры. Ни одна девушка не может нагнуться в кустах за розой, чтобы не подвергнуться немедленной опасности, а они столь мало привыкли к энергичным методам, что не относятся к ним с должным смирением, и потому каждый день у нас самые забавные разбирательства. Женщина пришла с жалобой не на то, что ею овладели семеро - "Слава богу, это пустяки", - но они отняли у нее любимый молитвенник. Вчера девушка пожаловалась лорду Перси, что ее обесчестили гренадеры. Лорд спросил ее, откуда она знает, что действовали гренадеры, ведь было темно. "Бог мой, - воскликнула она, - никто другой не мог этого сделать, и, если ваша светлость обследует меня, вы убедитесь, что дело обстоит именно так!" Все английские войска, высаженные на остров, здоровы и преисполнены решимости... Первые же янки-псалмопевцы, которые встанут на пути их сабель, окажутся в весьма затруднительном положении. Если моей бабушке нужны украшения для домашней церкви, я думаю, ей можно поставить по дешевке отборные головы... Недавно прибыли гессен-цы, рвущиеся схватиться с бунтовщиками, которых они презирают... Скоро мы вступим в дело, и последствия для мятежников будут фатальными".
Наконец свершилось - 22 августа ликующие войска Хоу высадились на Лонг-Айленде, на берег сошло 20 тысяч человек. Разведав местность и выяснив диспозицию американцев - их на острове было 5 тысяч, Хоу составил план сражения. Он установил, что левый фланг противника не только не защищен, но и не охраняется. В ночь на 26 августа он двинул главные силы в обход. Проводники-тори охотно повели врагов в тыл соотечественникам. Оставшиеся войска, в центре которых были гессенцы, должны были атаковать американцев с фронта по условному сигналу - два пушечных выстрела, означающие, что охват завершен.
В девять утра Вашингтон услышал пушечный выстрел слева и с тыла, за ним другой. Там не должно было быть орудий! Но тут же его внимание привлек центр позиции - с пением гимнов зеленые и синие ряды усатых гессенцев пришли в движение и с точностью автоматов двинулись на американцев. В считанные минуты все смешалось - удар с фронта, натиск густых колонн англичан с тыла. Враг везде. Американцы побежали, только отдельные части с отчаянной решимостью и руганью дрались. Многие растерявшиеся поднимали руки, и горе том, кого хватали гессенцы, - они тут же вешали пленных, избивали всех бросивших оружие.
В дикой панике, охватившей войска, Вашингтон ничего не мог поделать и поторопился на Бруклинские высоты - укрепленную позицию в тылу, откуда прекрасно был виден разгром армии. В эти критические часы он, несомненно, был убежден, что все потеряно, - па высоты сбегались солдаты, вырвавшиеся из пекла у их подножья, окровавленные, а главное, перепуганные до полусмерти. А внизу страшное зрелище, наголову разгромив американцев, бесчисленные английские полки (Вашингтону еще не приходилось видеть столько войск сразу) строились для штурма Бруклинских высот. Офицеры равняли ряды, отдавали команды, и вот, взяв ружья на плечо, они двинулись вперед, но, пройдя несколько шагов, сделали поворот кругом и пошли обратно. Чудо! Отказ от взятия Бруклинских высот военные историки единодушно считают величайшей ошибкой Хоу, он упустил верный шанс наголову разбить армию Вашингтона. Несомненно, перед мысленным взором Хоу стоял Банкер-Хилл, менее вероятно допущение иных историков - английский генерал втайне сочувствовал делу восставших.
Англичане решили взять Бруклинские, высоты по всем правилам - заложили параллельную траншею, за ней отрыли бы другую, третью, подтащили бы пушки и так далее. Потрясенный Вашингтон не стал ждать неминуемой развязки - приближения вражеских укреплений и последнего страшного натиска. В дождливую и туманную ночь 29 августа он скрытно перевез армию через реку почти в полтора километра шириной на остров Манхэттен. Маневр был выполнен с величайшей хитростью, отходившие войска грузились в лодки в твердой уверенности, что их сменяют свежие части. Таковых и в помине не было.
Американцы проиграли сражение, потеряв около 1500 человек, из них более тысячи пленных. Хоу недосчитался около 400 человек. Но Вашингтон спас армию. В Нью-Йорке он упал в обморок. Оправившись, отправил конгрессу донесение о битве, объяснив задержку сообщения тем, что "до сих пор я не был в состоянии ни диктовать, ни писать", ибо с момента высадки англичан до отхода в Нью-Йорк шесть суток "я почти не слезал с коня и ни на миг не смежил век".
Хотя Вашингтон попытался преуменьшить значение случившегося, распорядившись опубликовать фантастические данные об английских потерях, он знал, что положение из рук вон плохо. "С величайшей тревогой, - пишет он конгрессу, - я вынужден признаться, что не верю в боеспособность войск... До недавнего времени я не сомневался, что смогу защищать это место, но теперь отчаялся". Главнокомандующий никак не мог смириться с мыслью, что солдаты не повинуются приказам, а при опасности бегут без оглядки на офицеров.
Он еще не понял, что величайшая мобильность армии (в том числе, мягко говоря, при отходе) была преимуществом перед англичанами. В любом случае они не были в состоянии оккупировать обширные пространства, а уничтожить боевую силу американцев не представлялось возможным - уж очень они были легки на ногу. Ополчение доставляло одни огорчения - после отступления с Лонг-Айленда, сообщал Вашингтон конгрессу, ополченцы дезертировали "иногда почти целыми полками", из восьмитысячного коннектикутского ополчения за неделю осталось едва две тысячи, и "их пример заражает другие части армии".
Филадельфийские философы носились с концепцией солдата-гражданина, Вашингтон и офицеры вокруг него знали лучше цену, как ораторам, так и своей армии. Генерал-адъютант главнокомандующего Д. Рид в эти дни с величайшим отвращением писал жене: "Когда я оглядываюсь и вижу, что из множества столь высокопарно разглагольствовавших о смерти и чести таковых здесь так мало... я поражаюсь до глубины души. Иные джентльмены из Филадельфии, наносящие сюда визиты, при первом же орудийном выстреле разбегаются в страшной панике. Ваши шумные сыны свободы на поле боя тише воды, ниже травы..." Английский путешественник Н. Кресвелл, видевший американскую армию, записал в дневнике: "Здесь стоят янки, поистине создание дьявола. Человеку, чьи органы обоняния отличаются от свиньи, нельзя провести и дня в их зловонном лагере. Их армия многочисленна, но оборванна, грязна, масса больных и скверная дисциплина".
Через шпионов Хоу знал о плачевном состоянии в стане восставших и снова предложил переговоры, которые состоялись в начале сентября 1776 года на борту английского корабля. Доводы Хоу не убедили представителей конгресса, хотя он, будучи вигом, распинался в любви к делу восставших. Он заверил посланцев конгресса, что "в случае падения Америки он будет оплакивать это как потерю брата". На что Франклин серьезно заверил: "Мы сделаем все, чтобы не огорчать ваше сиятельство". Получив отчет о переговорах, Вашингтон заметил: "Лорду Хоу нечего предложить, за исключением того, что, если мы сдадимся, его величество решит, перевешать нас или нет". Миссия Хоу, вероятно, все же наложила определенный отпечаток на его действия, которые далеко не всегда были столь энергичными, как требовали обстоятельства.
Перед лицом превосходящего врага Вашингтон согласился с теми, кто давно предлагал сжечь Нью-Йорк и тем самым лишить англичан базы. Две трети имущества в городе принадлежало заклятым лоялистам. 8 сентября Вашингтон обратился к конгрессу с предложением оставить город. "Наш опыт, - писал он, - советы наших способных друзей в Европе и даже Декларация конгресса указывают, что нам следует вести оборонительную войну". Зная теперь боевые качества своей армии, он разъяснил конгрессу, что в этой войне нельзя вступать в решительное сражение с врагом, больше того, даже ожидать англичан в укреплении, ибо во вверенных ему войсках, "признаюсь, я не обнаружил готовности защищать их любой ценой". Ему приказали удерживать Нью-Йорк.
Остров Манхэттен тянется примерно на двадцать километров с севера на юг, имея в ширину около трех километров. Южную часть острова на два с небольшим километра занимал Нью-Йорк, затем километров десять тянулись поля фермеров, а на северной оконечности Манхэттена - скалистые высоты Гарлем. Даже дилетанту было ясно, что держать всю армию в городе значило подвергнуть ее смертельной опасности - при господстве англичан на море они могли высадиться в любом месте и отрезать американцев от единственного пути отхода - моста в северной части острова.
Вашингтон отвел главные силы (9 тысяч человек) на сравнительно безопасные высоты Гарлем, 5 тысяч осталось в городе и еще 5 тысяч охраняло побережье.
С утра 15 сентября в штабе Вашингтона в Гарлеме услышали рев канонады; английские корабли обстреливали остров со стороны Гудзона, то есть с запада. Вашингтон уже успел изучить повадки братьев Хоу и поэтому поторопился на восточную часть острова. Там, в заливе Кипс-Бей, на полпути между Нью-Йорком и Гарлемом, высаживался десант. 450 зеленых ополченцев, разинув рты, наблюдали за невиданным зрелищем - к берегу шли 84 шестнадцативесельных баркаса. Красные мундиры англичан, синие и зеленые мундиры гессенцев издалека выглядели как клеверное поле в цвету. Очарование длилось недолго, с кораблей ударили пушки, расчищая дорогу десанту. Стоило первым ядрам засвистеть над головами, как ополченцы резво побежали. Столбом взвилась пыль на дороге от сотен ног.
В пыльном облаке чертом вертелся Вашингтон, поднимая коня на дыбы, пытаясь остановить бегство. Куда там! Ополченцы мчались без оглядки. Едва улеглась пыль, как Вашингтон вздохнул с облегчением - к нему поспешали беглым шагом две бригады. Генерал наскоро указал позицию, в горячке он вылетел вперед, размашистыми жестами показывая, кому стать за стенами, разделявшими поля, кому залечь в кукурузе. Тут появился вражеский отряд не более 60-70 человек. Вашингтон оглянулся на своих молодцов и увидел их спины. Без единого выстрела бригады бежали по той же дороге, по которой только что промчались ополченцы. Они бросили орудия, мушкеты, ранцы, подсумки.
Вашингтон сорвал с себя шляпу, швырнул ее на землю и завопил: "И с этими я должен защищать Америку! Великий боже, что за армия!" Простоволосый генерал с трудом догнал на коне бегущую толпу и, врезавшись в нее, свидетельствует очевидец, "выхватил седельные пистолеты, направил их на солдат, нажал курки. Пистолеты не выстрелили. Говорят, что он обнажил шпагу, грозя рубить бегущих. Он бил их плетью по плечам в бешеной злобе за трусость. Он лупил не только солдат, но и офицеров, стегал полковников, избил бригадного генерала".
Ничего не помогало. В конце концов, обессиленный Вашингтон остался один на дороге. Гессенцы были шагах в восьмидесяти, когда расторопный адъютант сообразил, что генерал, потеряв в отчаянии голову, сознательно ищет смерти, схватил лошадь Вашингтона за уздечку, и они ускакали.
Обезумев от стыда, Вашингтон прискакал в свой штаб в Гарлеме. До глубокой ночи он молча стоял в дверях дома, вглядываясь в лица все новых беглецов, появлявшихся в лагере. Когда стемнело, генерал немного успокоился - кажется, весь нью-йоркский гарнизон прибежал в Гарлем. Достопамятный пробег - двадцать километров за день. Казалось, они спаслись чудом. Легенда, составленная в патриотическом духе, гласит, что англичане не успели перерезать отход из города, так как некая прекрасная дама Мэррей зазвала Хоу в свой элегантный дом, и там на несколько часов генерал забыл, что идет война. Другая легенда относит случившееся за счет симпатии Хоу к делу американской свободы. Каковы бы ни были истинные причины, Хоу, конечно, упустил врага, его четырнадцатитысячный десант потратил целый день, чтобы покрыть три километра до западного берега острова.
Англичане торжественно вступили в Нью-Йорк, а на Гарлемских высотах Вашингтон горестно подсчитывал издержки - потеряно больше половины артиллерии, обозы. "Все это можно было бы легко спасти, если бы войска оказали хоть слабое сопротивление врагу", - с гневом писал он.
На следующий день - новая схватка. Небольшой английский отряд подошел к высотам. Завидя американцев, горнист поднес горн к губам, и в чистом утреннем воздухе раздался до боли знакомый Вашингтону сигнал: "Трави лисицу!" Крайняя степень позора, намек для страстного любителя охоты на лис Вашингтона был понятен. Он повелел покарать наглецов, выслав против них превосходящие силы. Не доверяя солдатам, Вашингтон погнал возглавить отряд лучших генералов. Стычка окончилась победой - англичане ретировались. Моральный дух войска поднялся.
Вашингтону было суждено провести около месяца в укрепленном лагере на высотах Гарлем. Впереди была зима, и он предавался тягостным раздумьям - армия разбегалась. Дезертировали уже сотнями. Ежедневно в штабе толпились заплаканные женщины, мрачные мужчины - все жаловались на повальные грабежи.
Он пишет конгрессу: "В нашей армии развились такие настроения, что ни общественная, ни частная собственность не находятся в безопасности. Каждый час приходят жалобы на наших солдат, которые стали несравненно опаснее беднягам фермерам и обывателям, чем общий враг. Выпрягают и крадут лошадей от военных фур, разворовывают вещи офицеров и медицинские припасы, даже генералы не защищены от грабежа. Если не будут немедленно приняты свирепые и показательные наказания, армия развалится". Конгресс ввел смертную казнь за серьезные воинские преступления. Вашингтон, признавая необходимость вешать, все же считал, что решение вопроса не в этом.
Снова и снова он разъясняет конгрессу, что спасение в создании постоянной армии, солдат следует вербовать не на три года, а на всю войну. 24 сентября с Гарлема он пишет пространное письмо президенту конгресса Хэнкоку, в который раз излагая свои взгляды на строительство армии. Прежде всего повысить жалованье офицерам. ("Почему, например, капитан континентальной армии получает 5 шиллингов в день за исполнение таких же функций, как капитан в английской армии, получающий 10 шиллингов? Этого я никак не могу понять".) Офицерам нужно платить столько, чтобы они могли "жить джентльменами". Рядовым, вступающим в армию, следует немедленно выдавать денежную ссуду, бесплатную форму и постельные принадлежности, закреплять "по крайней мере" 40-60 гектаров земли. Если не положить конец такой ситуации, когда "относятся к офицеру как к равному... не может быть ни порядка, ни дисциплины, офицер никогда не будет пользоваться тем уважением, которое жизненно необходимо для субординации".
Имея в виду безответственную болтовню в Филадельфии насчет высоких моральных качеств солдата-гражданина, Вашингтон писал: "Полагаться в какой-то степени на ополчение, конечно, смешно. Люди, оторванные от сладостей личной жизни, непривычные к звону оружия, совершенно незнакомые с военным делом, не уверенные в себе при встрече с подготовленными и дисциплинированными войсками, искусными в военном деле, робеют и готовы бежать от собственной тени".
Жестокие слова, глубоко ранившие политических мыслителей. Они полагали, что добродетельный пахарь, бросающий плуг и хватающий оружие, чтобы отразить наемников тирана, существует на самом деле. Жизнеспособность и реальность благородной концепции никогда не вызывали и тени сомнений у просвещенных, возвышенно мысливших юристов, рабовладельцев, торговцев и прочих заседавших в конгрессе. Теперь им приходилось признать, что, по крайней мере, в руках Вашингтона она определенно не действовала. Он требовал армию не из одухотворенных борцов за свободу, а из скованных железной дисциплиной солдат-профессионалов.
Главнокомандующий, конечно, не понимал положения конгресса, который не мог выполнить его пожелания. Члены конгресса представляли штаты, только-только обретшие автономию, а Вашингтон стоял за армию, совершенно не подчиненную тринадцати правительствам. На ум невольно приходили привычные сравнения с Древним Римом - разве диктаторы не начинали с того, что отнимали у республики ее вооруженную мощь, подчинив армию только себе? Не положит ли континентальная армия начало континентальному, тираническому правительству?

Мундиры солдат континентальной армии
Каковы бы ни были опасения депутатов конгресса, выполнение настояний Вашингтона не терпело промедления. Конгресс вотировал создание армии из 88 полков и содержание ее на протяжении всей войны. Но штаты должны были не только формировать и снабжать их, но и назначать офицеров. Подбор офицерского корпуса зависел не от главнокомандующего, а от политиков в столицах штатов. По опыту минувшего года он знал, что солдаты не будут вступать в армию, пока не выяснят, кто именно будет ими командовать. Из штатов явятся, конечно, офицеры ополчения, а с ними, настаивал Вашингтон, "ни один человек, дорожащий своей репутацией, не может отвечать за последствия".

Джордж Вашингтон отправляется на войну. Картина Л. Ферриса 'Перед рассветом'
А война продолжалась...
* * *
В ночь на 20 сентября Вашингтона разбудили. Он выскочил на улицу, над Нью-Йорком стояло зарево - город горел! Он пробормотал: "Провидение или какой-нибудь добрый человек сделал для нас больше, чем мы были готовы сделать сами". Огонь уничтожил около пятисот домов, примерно четвертую часть города. Англичане и лоялисты не сомневались, что пожар - дело рук врага. Нескольких несчастных, объявленных "поджигателями", повесили за ноги или бросили живыми в огонь.
В эти дни офицер континентальной армии двадцатичетырехлетний Натаниэль Хейл, посланный собрать сведения об англичанах, попал в их руки. Хоу, разъяренный пожаром, наскоро допросил молодого человека и велел повесить его, что и было сделано в Нью-Йорке 22 сентября. С петлей на шее Хэйл провозгласил: "Я сожалею лишь о том, что я могу отдать за родину только одну жизнь".

Дисциплину приходилось поддерживать и так
Успешное овладение Нью-Йорком было только частью английского плана, другая часть - двинуться из Канады на соединение с армией Хоу - не была выполнена. Английский генерал Карлтон, правда, сумел побить противостоящие ему войска под командованием Бенедикта Арнольда, но понес большие потери и не рискнул наступать на Тикондерогу, а в начале октября отошел на зимние квартиры в Монреаль. Арнольда можно было с достаточными основаниями считать полководцем (разумеется, по масштабам схватки), предотвратившим катастрофу. Вашингтон, во всяком случае, не мог им нахвалиться.
Промешкав с месяц в Нью-Йорке, Хоу в середине октября возобновил наступление, высадив в тылу Вашингтона крупные силы в Пеллз-Пойнт. Американцы справедливо заподозрили, что их хотят поймать в ловушку в Гарлеме. Вашингтон пошел прямо на англичан, и 28 октября армии встретились: американцы заняли более или менее укрепленную позицию у Уайт-Плейнс, англичане провели очень вялую атаку и успокоились. Затем Хоу по причинам, так и не выясненным (позднее он загадочно бросил в парламенте: "По политическим соображениям"), отказался развить стычку в сражение, в котором с учетом соотношения сил американская армия была бы неизбежно уничтожена. Вашингтон не стал искушать судьбу и поспешно отошел. Тут же совершенно непонятно отступил Хоу. Он определенно готовил новый удар, но в каком направлении?

Завтра бой
Разномыслие в штабе Вашингтона разделило американскую армию на четыре части, с тем, чтобы парировать все возможные маневры врага. Гудзон заперли наспех сооруженные укрепления - форты Вашингтон и Ли, стоявшие один против другого. Там сел с пятитысячным гарнизоном генерал Н. Грин, еще три тысячи солдат стали километров на пятьдесят выше по течению. Полкам из Новой Англии под командованием Ч. Ли Вашингтон приказал отойти па восток и прикрыть эту часть страны. Семитысячный отряд Ли сосредоточился в районе Норс-Касл. Сам Вашингтон с двумя тысячами перешел на восточный берег Гудзона, решив остаться в Нью-Джерси - он полагал, что на пути к Филадельфии Хоу может двинуться сюда.
Разделение армии на четыре части служило предметом споров среди американских историков, далеко не все признали это разумным. Вашингтон, вероятно, не видел в рассредоточении войск большой беды, он полагался на большую подвижность американцев по сравнению с врагом. Кроме того, он наверняка верил, что сам в Нью-Джерси, а Ли в Новой Англии быстро сумеют набрать еще солдат. Последнее не оправдалось, хотя Вашингтон, преодолев отвращение, кликнул ополчение. Ополченцы штата Нью-Йорк ответили, что генерал Хоу обещал им "мир, свободу и безопасность, большего им не нужно".
Против всех ожиданий англичане пока не пошли далеко, а обрушились на цель под рукой - форт Вашингтон на западном берегу Гудзона. В скверно построенном укреплении было около трех тысяч американцев. 16 ноября против них двинулось тринадцать тысяч англичан и гессенцев.
Вашингтон поспел к решающему часу. Он прискакал в форт Ли с генералами Грином и Путманом и переправился в лодке на западный берег Гудзона. Впереди, очень близко, - гром орудий, мушкетная пальба. "Мы все остановились, попав в весьма неловкое положение, - писал позднее Грин, - поскольку все распоряжения были отданы, а враг надвигался, мы не осмеливались вмешиваться, больше того, мы не видели, чтобы что-нибудь было упущено. Мы все умоляли Его светлость уйти. Я вызвался остаться. То же самое предлагали генерал Путман и генерал Мерсер, однако Его светлость решили, что самое лучшее уйти нам всем, что мы и сделали за полчаса до того, как неприятель окружил форт".
Генералы вернулись к форту Ли. Вашингтон с высокого правого берега реки наблюдал за развязкой, которая не заставила себя ждать. Англичане пригрозили в случае продолжения сопротивления перебить гарнизон. Свирепые физиономии гессенцев подтвердили серьезность намерений врага. Потеряв 59 человек убитыми, 2634 защитника форта сложили оружие. Неприятель забрал 146 орудий, различные запасы. То было тяжкое и унизительное поражение. Задним числом Вашингтон доказывал, что Грин не понял его приказа эвакуировать форт. Однако он не сделал Грина козлом отпущения, а, напротив, еще более приблизил к себе.
Воодушевленный победой Хоу больше не медлил, в ночь на 19 ноября шеститысячный отряд генерала Корнваллиса форсировал Гудзон и пошел на форт Ли. Вашингтон приказал ретироваться. Было брошено все, успели вывезти только две двенадцатифунтовые пушки. Английский офицер описывал увиденное в оставленном укреплении: "На кострах еще кипели котлы, были накрыты столы для офицеров. В форту нашли всего двенадцать человек, все мертвецки пьяные. Обнаружено 40-50 заряженных орудий, включая две большие морские мортиры, громадные запасы боеприпасов, продовольствия, палатки но были сняты". Победители упивались успехом, другой английский офицер записывал: "Бунтовщики бежали как зайцы... Они оставили скверную ветчину и немало грязных прокламаций, среди них обращения того мерзавца автора "Здравого смысла", которые мы теперь можем читать на досуге, взяв один из "неприступных редутов" господина Вашингтона".
Под проливным дождем, превратившим дороги в грязное месиво, Вашингтон отступал через штат Нью-Джерси, преследуемый по пятам Корнваллисом. Скорбный путь испугал многих, измученные, обовшивевшие солдаты дезертировали. Робким душам представлялось, что все кончено - неприятель улучит момент и разгонит армию. Население Нью-Джерси склоняло головы перед англичанами и гессенцами, самые настырные добивались письменных "прощений" от имени Хоу. Попытки Вашингтона добыть теплые вещи и хоть раз досыта накормить изголодавшихся солдат не удались - фермеры не принимали денежные знаки континентального конгресса.
Мрачные думы овладели Вашингтоном, он был на грани отчаяния. В тысячный раз он клял себя за потерю форта Вашингтон, справедливо относя это за счет собственных "колебаний и нерешительности". Он понимал, что, вступив в Нью-Джерси, англичане могут повернуть на восток и легко взять близлежащую Филадельфию. Сил защитить столицу не было, любое сражение оставшихся у него примерно трех тысяч с врагом закончится окончательным разгромом.
В эти дни он пишет родственникам: "Наша единственная надежда теперь на быстрое создание новой армии. Если это не удастся, игра кончится довольно быстро". И в другом письме: "Вы не можете представить сложность моего положения. Наверное, никто не имел такого богатейшего выбора трудностей и меньше средств выпутаться из них".
Слабую надежду на спасение сулило отступление за реку Делавэр. Там, в Пенсильвании, отгородившись пока не замерзшим водным рубежом, можно было дать передышку измученным людям и приступить к формированию новой армии. А тем временем собрать войска, рассредоточенные ранее, и, главное, вызвать на подмогу в Пенсильванию генерала Ли с его людьми. Вашингтон слал к нему гонца за гонцом. Ли не торопился. В момент, когда дело восставших повисло на волоске, он занялся интригами.
Бесподобный генерал сожалел и постоянно повторял: "Прискорбно родиться не в славные третье или четвертое столетие существования Рима". Судьба, по разумению Ли, обошлась с ним круто - он возглавлял не железные когорты римлян, а толпы мятежных американцев. С самого начала войны Ли считался и считал себя смыслящим в ратном деле куда больше Вашингтона. Офицер британской службы, он осел в Вирджинии в 1773 году, рассказывая всем и каждому о своих военных подвигах. Он воевал в Америке с индейцами и французами, дрался в Испании, побывал в Польше и даже навязался в русскую армию в войне с турками. Поразительно тощий и на удивление неопрятный, наполненный желчью, Ли говаривал: "Поистине лучшее доказательство доброго сердца любить собак, а не людей", и посему расхаживал окруженный сворой псов. Эксцентричные манеры и особенно длинный язык Ли поразили простаков американцев. Он приобрел репутацию человека № 2 континентальной армии. Удача под Чарлстоном разожгла его честолюбие, а многие в Америке стали сокрушаться - почему вооруженные силы не вверены великому воину. "Генерала Ли ждут с часу на час, - съязвил английский офицер, - посланцем небес с легионом ангелов с огненными мечами". Генерал-адъютант Вашингтона Рид был недалек от такого мнения. В дни тягостного отступления он написал паническое письмо Ли, понося Вашингтона за нерешительность и умоляя генерала поспешить к попавшей в беду армии. Тут Вашингтон послал Рида в Пенсильванию сделать приготовления для отступавших войск.
В мрачный зимний день курьер вручил Вашингтону письмо, адресованное Риду. Главнокомандующий, полагая, что это деловой документ, сломал печать и погрузился в чтение: "Я получил ваше самое лестное письмо и вместе с вами оплакиваю ту фатальную нерешительность, которая на войне много хуже глупости и даже недостатка храбрости, случай может помочь ошибающемуся, однако если проклятье самого лучшего человека - нерешительность, - тогда его удел вечные поражения..." Вашингтон медленно сложил письмо, он совершил поступок, недостойный джентльмена, читал личную переписку других!
Он тут же схватил перо и, тщательно подбирая выражения, написал Риду: "Прилагаемое письмо доставил мне курьер, прибывший из Уайт-Плейнз. Не имея ни малейшего понятия, что это личная переписка и еще менее о ее характере, я вскрыл послание, как читаю все друге письма вам оттуда и из Пикз-Хилл по делам вашей должности. Это извиняет мое ознакомление с содержанием письма, чего я вовсе не желал. Благодарю вас за труды в поездке в Барлингтон, искренно надеюсь, что они увенчаются успехом. С наилучшими пожеланиями г-же Рид остаюсь и т. д. Джордж Вашингтон".
Рид сгорал от стыда - Вашингтон беспредельно доверял ему. Он подал в отставку, Вашингтон убедил его взять прошение обратно, памятуя о высших интересах отчизны. Разбитая дружба больше не склеилась, спустя три месяца Вашингтон назначил Рида командовать кавалерией. Снедаемый угрызениями совести, Рид, прощаясь со штабом, выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. Вашингтон ответил дружеским и спокойным письмом, упрекнув Рида только за то, что "мнение не было доведено непосредственно до моего сведения. Благоприятный прием, который встречали ваши суждения во всех случаях, учет их, мое искреннее желание выслушивать их давали мне, я думаю, право получать от вас советы, в которых я, как казалось, нуждался..."
1 декабря Корнваллис приблизился к армии Вашингтона на 15 километров. И надо же было так случиться, что в этот день истекал срок службы многих солдат. Несмотря на уговоры Вашингтона, служивые разошлись по домам. Попытки собрать ополчение в Нью-Джерси не увенчались успехом, да и спрашивать не с кого - конвент штата разбежался.
А Ли, промедлив почти месяц, только 2 декабря тронулся с места и неторопливо пошел в Пенсильванию. Он подчинял себе части, дислоцировавшиеся по соседству, и вообще вел себя как грядущий спаситель США. Вашингтон приписал это избытку патриотического рвения, на деле Ли вступил в оживленную переписку как с генералами, так и с членами конгресса, недвусмысленно намекая, что только он способен отстоять страну в грозный час.
13 декабря Ли с армией был в двухдневном переходе от Вашингтона. Он любил ночевать в незнакомых домах и с незнакомыми женщинами, на этот раз, избрав для ночлега уютную гостиницу, содержавшуюся разбитной вдовой. Несколько километров, отделявших гостиницу от бивака его войск, придали ей особую прелесть в глазах Ли.
Утром, плотно позавтракав, генерал принялся за привычное дело - поливать грязью Вашингтона. Он написал письмо генералу Г. Гейтсу, где изложил свои взгляды на высшую стратегию и поносил на все лады главнокомандующего, который-де, "между нами говоря, ни к черту не годится". Генерал собирался подписать письмо, как раздался испуганный возглас адъютанта: "Сэр, английская кавалерия!" К дому карьером летели драгуны, небольшой разъезд. Они окружили гостиницу, пригрозив, что если генерал не выйдет, то дом подожгут. Ли отвергнул великодушное предложение хозяйки спрятаться в постели, мужественно вышел к врагам как был - в шлепанцах, халате и без шляпы. Драгуны схватили его, сунули в седло и повлекли в плен. Получив известие о захвате Ли, Вашингтон схватился за голову: позор, а он одно время был готов уступить место рукастому и горластому полководцу!
В день, когда драгуны уволокли Ли, в лагерь Вашингтона примчался гонец из Филадельфии - насмерть перепуганный конгресс оповещал, что переезжает в Балтимору. Отцы американской независимости не озаботились призвать к стойкой защите столицы, где звучали их соблазнительные речи насчет свободы, а пеклись о личной безопасности. В горячке сборов они наскоро приняли резолюцию - воззвали к офицерам действующей армии добиваться морального совершенства, высказались против излишнего сквернословия на военной службе, а также постановили: "Пока конгресс не решит иначе, генерал Вашингтон располагает всей полнотой власти... для ведения войны".
Обстоятельства Вашингтона сравнивали с положением Цезаря и Ганнибала. Раздались крики: "Диктатор!" Сбежавшие конгрессмены не на того напали. Вирджинец чувствовал себя отнюдь не диктатором, а генералом, брошенным вдохновителями революции с голодными и раздетыми солдатами на произвол судьбы. А будущее могло действительно оказаться мрачным - Хоу развлекался как мог, грозя пленному Ли петлей. Главнокомандующий учтиво поблагодарил конгресс за высокое доверие, разъяснив представителю "революционеров", сбежавших в Балтимору, банкиру Моррису (он один остался в Филадельфии): "Отнюдь не считая себя освобожденным от всех обязательств перед гражданскими властями этим знаком их доверия, напротив, я постоянно памятую, что поскольку меч - последнее средство обеспечения наших свобод, его надлежит сложить первым, как только эти свободы будут твердо установлены".
"Диктатор" смиренно просил богача Морриса дать бумажных денег для уплаты обещанных премий служивым и особенно "звонкой монеты для расплаты с определенными людьми" - тайные агенты, конечно, не желали рисковать своей шкурой ради сомнительного доллара, выпущенного правительством, ударившимся в бега. Моррис, чем и заслужил вечное расположение Вашингтона, без промедления прислал пятьдесят тысяч долларов и два мешочка с серебряными и золотыми монетами. Мало вязалось с представлением о "диктаторе" и послание Вашингтона комитету безопасности Пенсильвании: "От всего сердца благодарю за собранные вами старые вещи для армии, они очень нужны и будут розданы самым нуждающимся".
Бегство конгресса развязало руки Вашингтону-полководцу. Впервые с начала войны за независимость он освободился от назойливых советов десятков стратегов-тыловиков. 14 декабря он принял решение контратаковать, ведь приближалось 1 января, когда вся армия практически растает. "Пытаться остановить уход полков по истечении срока их службы, - говорил он, - равносильно попытке остановить ветры или движение солнца". Если немедленно не одержать внушительной победы, тогда никакой силой не заманить новых солдат под знамена свободы. А без вооруженной силы дело революции погибнет.
В середине декабря у Вашингтона под ружьем было около семи тысяч человек. Большинство этих воинов революции считали дни, оставшиеся до 1 января. Их бедствия было почти невозможно преувеличить, однако англичане оказались способны на это. Хоу стал на зимние квартиры, заняв населенные пункты на восточном берегу Делавэра относительно сильными гарнизонами. 21 декабря командир почти полуторатысячного отряда гессенцев в деревне Трентон полковник Ралл получил разъяснение штаба: американская армия, "по существу, нага, умирает с голоду, солдаты не имеют одеял и очень плохо питаются". Прочитав успокоительное сообщение, полковник стал готовиться достойно встретить рождество, а Вашингтон - к атаке Трентона в рождественскую ночь.

Через реку. Впереди Трентон
Т. Пейн, деливший трудности похода с солдатами, в эти дни написал первый памфлет, открывший серию статей "Американский кризис". 23 декабря Вашингтон, прочитав творение Пейна, велел огласить зажигательные слова перед строем оборванных воинов: "В эти времена души людей проходят испытание. Летние солдаты и патриоты, нежащиеся под солнцем, в этот кризис бросят службу стране, но оставшийся заслужит любовь и благодарность всех. Тиранию, как ад, победить нелегко, но у нас есть утешение - чем тяжелее война, тем величественнее триумф. Что достается дешево, то и не ценится, ценность всему придает только дороговизна. Небо знает, какую цену назначать на свои товары, и было бы поистине странно, если бы такой предмет небесного происхождения, как Свобода, не был бы дорог..."
Набрасывая в бликах костра пламенные строки на барабане вместо стола, Пейн, как видим, сумел доходчиво объяснить солдатам цену свободы. Армия, воспрянула духом и в ночь на 26 декабря вслед за Вашингтоном приступила к форсированию Делавэра. Солдаты, по уши укутавшись в тряпье, отталкивали веслами и баграми льдины. Переправа орудий обессилила людей. Из трех отрядов, на которые разделил армию Вашингтон, чтобы полностью окружить Трентон, только находившиеся под его командованием 2400 человек с 18 орудиями смогли перебраться через зимнюю реку. К четырем утра полки Вашингтона собрались на противоположном берегу.
Он понимал, что идет на отчаянный риск. Впереди буквально победа или смерть. Объезжая колонну призраков, ковылявших по дороге к Трентону, Вашингтон негромко заклинал: "Солдаты, держитесь офицеров, ради всего святого, держитесь офицеров!" Пошел ледяной дождь, смешанный со снегом, на полпути к деревне сделали привал - весь путь составлял свыше 12 километров. Двоих, присевших на снег, так и не разбудили. Колонна разделилась - одна дивизия пошла в обход Трентона. Ее командир генерал Салливан доложил, что порох подмок. "Передайте генералу Салливану действовать штыками", - утешил Вашингтон. К восьми утра вышли к Трентону, пройденный путь можно было легко различить - кровавые следы. Многие шли в развалившихся башмаках и изранили ноги.
Как и ожидал Вашингтон, гессенцы не могли и помыслить, что на них нападут в такую погоду. Они отдыхали от славной рождественской попойки. Когда американцы, сбив охранение, ворвались в Трентон, три гессенских полка попытались построиться в боевой порядок. Тщетно! Молодой Александр Гамильтон успел выкатить орудия к началу двух длинных улиц Трентона, и картечь вымела гессенцев. Ралл был убит. Падение с лошади командира положило конец сопротивлению. Гессенцы сложили оружие. Бой продолжался едва полчаса.
Наступил мутный зимний день - американцы наскоро пересчитали пленных - 918 человек! Около 400 гессенцев, однако, ускользнули. Враг потерял 40 человек убитыми, у американцев четверо убитых и четверо раненых, среди последних - юный лейтенант Д. Монро, один из будущих президентов США. Офицеры, перекрикивая друг друга, требовали преследовать врага. Вашингтон приказал, не теряя ни минуты, отступить за реку. Голодные солдаты смертельно устали. Хотя офицеры выполнили распоряжение главнокомандующего - сразу по взятии Трентона разбить винный склад .гессенцев и вылить ром на землю, по улицам уже слонялись пьяные воины. Американцы, захватив пленных, ушли за Делавэр.
Случившемуся в Трентоне Хоу сначала не поверил: "Разве можно, чтобы три старых полка народа, для которого война профессия, сложили оружие перед оборванным и недисциплинированным ополчением!" Разобравшись, он приказал генералу Корнваллису с 7 тысячами человек поспешить к Трентону и проучить наглецов, а тем временем 29 декабря Вашингтон перешел Делавэр и снова занял Трентон.
Он стремился выиграть состязание со временем - через двое суток армия разойдется. По крайней мере, река затруднит уход. На месте недавней победы генерал выстроил полки и обратился к ним с речью, умоляя послужить еще шесть недель. Он обещал каждому оставшемуся по 10 долларов в твердой валюте, а также воззвал: "Вы окажете такую услугу делу свободы и вашей стране, которой, вероятно, больше не представится. Нынешний кризис решит нашу судьбу". Около полутора тысяч солдат вышли из рядов и вняли просьбе главнокомандующего. Серьезность его намерений сомнений не вызывала - он обещал в обеспечение денежного вознаграждения пустить все свое имущество, включая Маунт-Вернон. Вашингтон отлично усвоил неотразимую в американских условиях логику убеждения Томаса Пейна.
К исходу 2 января 1777 года Корнваллис с 5,5 тысячами вышел к Трентону. Вашингтон оказался в чрезвычайно опасном положении - его армия была прижата к реке. Офицеры штаба английского генерала убеждали его атаковать не мешкая. Он сослался на усталость войск, пообещав поутру "сунуть в мешок старого лиса", который, однако, думал по-иному.
В ночь на 3 января Вашингтон решил нанести удар.
Примерно 400 солдатам было приказано поддерживать огонь в кострах и шумно долбить мерзлую землю, остальная армия - до 6 тысяч человек - тихо снялась с места и по проселочной дороге двинулась в тыл Корнваллиса к Принстону, где был его резерв 1200 человек. Снова, как и неделю назад, шли, оставляя кровь на снегу. На привалах засыпали шеренгами, офицеры с трудом расталкивали солдат и звали вперед. Продвигались почти бесшумно, колеса орудий, копыта лошадей обмотали тряпками. За ночь покрыли 20 километров и утром столкнулись у Принстона с английскими войсками, направлявшимися к Трентону.
Свежие английские солдаты опрокинули было передовую американскую бригаду, возникла опасность паники. Американцы выдвинули два орудия, в рядах смущенных солдат появился на белом коне Вашингтон. Сцена, просящаяся на полотно художника-баталиста. Попятившаяся бригада приободрилась. Кое-как равняя ряды, американцы устремились за генералом. Англичане остановились и рассыпались за изгородью. Когда до них оставалось едва тридцать метров, Вашингтон крикнул: "Стой, залп!" Он совпал с залпом врага. Вашингтон между стенами огня. Адъютант полковник Фицжеральд закрыл лицо руками, боясь увидеть смерть главнокомандующего. Когда он взглянул, Вашингтон в клубах порохового дыма по-прежнему прочно сидел в седле и вел в атаку американцев.
Теперь побежали англичане. Вашингтон в гуще боя гнался за ними. Слышали, как он кричал: "Трави лису, ребята!" Понукать не приходилось: солдаты исправно работали штыком и прикладом. Они вихрем ворвались в Принстон, захватили около трехсот пленных и так же стремительно ушли из города. Вашингтон знал, что пылающий местью Корнваллис торопится на место боя. Он повел армию на восток, к высотам вокруг Морристауна, где собирался провести несколько дней, а остался на пять месяцев.
Корнваллис счел за благо не преследовать "старого лиса" и отвел войска почти из всего штата Нью-Джерси. Передовым английским аванпостом стал Брунсвик, в пятнадцати километрах от острова Статен, где англичане начали кампанию 1776 года. Только небольшие английские отряды отныне осмеливались углубляться в Ныо-Джерси, в руках Хоу остался Нью-Йорк с небольшой прилегающей к нему территорией.
* * *
Трентон и Принстон сделали Вашингтона героем дня, заложили краеугольный камень его культа. По всем Соединенным Штатам его славили как нового Цезаря. Кресвелл - свидетель торжества свободолюбивых американцев - пометил в дневнике: "Имя Вашингтона превозносится до неба. Александр Македонский, Помпеи и Ганнибал ныне по сравнению с ним пигмеи".
До начала марта 1777 года - возвращения конгресса в Филадельфию - Вашингтон около трех месяцев был "диктатором". Это далеко не радовало его. Он повторял, что получил "власть, которую весьма опасно вверять кому-либо. Могу только добавить, что лечение опасных болезней требует опасных средств, но я не рвусь к власти и страстно хочу перековать меч в плуг".
Пользуясь своим исключительным положением, он распорядился сформировать, помимо 88 полков, санкционированных конгрессом, еще 22, подчеркнув, что они не должны быть связаны с конкретными штатами. Эти дополнительные полки символизировали единство штатов, подвергавшееся серьезным испытаниям. Он основал три полка артиллерии. Конечно, вся эта вооруженная мощь осталась в основном на бумаге.
Освободив Нью-Джерси и укрепившись у Морристауна, примерно в сорока километрах прямо на запад от Нью-Йорка, Вашингтон встал перед проблемой, что делать с жителями штата, которые при вступлении английских войск поклялись в верности королю. Горячие патриоты, естественно, осаждали его с кровавыми планами расправы. Он отмахнулся от них - не нужно "мучеников". Вашингтон приказал всем давшим присягу англичанам явиться в ближайший американский штаб и там принести присягу на верность США. Тех, кто откажется или будет замечен в открытых враждебных актах, предписывалось вежливо препроводить к английским линиям и предложить убраться к врагам. Семьи изгнанников могли остаться в своих домах.
Жаждавшие крови, в том числе в конгрессе, осуждали мягкосердечие генерала, но он оказался совершенно прав. Англичане в Нью-Йорке не встречали изгнанников с распростертыми объятиями, они (часто состоятельные люди) влачили там нищенское существование. Нью-Йорк под британским военным управлением быстро излечивал от роялистских убеждений.
Вторжение англичан и гессенцев в Нью-Джерси повернуло сердца колебавшихся. Грабежи и насилие войск, особенно гессенцев, приобрели широкий размах. Очевидец сообщал Джефферсону: "Позоря цивилизацию, они насилуют прекрасный пол - от десяти до семидесяти лет". Комиссия конгресса, обследовавшая положение в Нью-Джерси и Нью-Йорке, сообщила об оргии убийств пленных, насилиях и грабеже. Когда в 1779 году английский парламент провел расследование поведения войск Хоу на американской земле, то свидетель, английский генерал Робинсон, указал, что в Америке допускались эксцессы, которых не могло быть на занятой территории в Европе.
Вашингтон считал, что вражеское нашествие - великая школа воспитания патриотизма, а чтобы уроки были наглядны, все время внушал служивым вести себя прилично. Запрещая, например, в приказе 1 января 1777 года "всем офицерам, солдатам континентальной армии и ополченцам грабить любого, тори он или нет", главнокомандующий подчеркивал, что "человечность и вежливость к женщинам и детям будут отличать смелых американцев, сражающихся за свободу, от презренных наемных разбойников, как англичан, так и гессенцев".
Приказы, однако, никак не могли образумить американскую армию. Некий священник Малленберг, местечко которого освободили бравые воины, отправился в свой "храм и, к глубокому сожалению, нашел, что полк пенсильванского ополчения захватил церковь и школу. Храм был переполнен вооруженными офицерами и солдатами, один из них играл на органе, остальные подпевали хором. На полу солома и грязь, алтарь осквернен. Я не счел благоразумным обращаться к толпе, ибо они стали издеваться, а офицеры потребовали от игравшего на органе исполнить гессенский марш. Я нашел полковника Данлопа, вопросив его: "Что, это и есть обещанная защита религии и гражданских свобод?" Не получив вразумительного ответа, преподобный отец с местным учителем отправились по домам, где все было разграблено. "Стоит вымолвить хоть словечко по поводу этого, как кричат: "Тори!" - и грозят сжечь дом, а другая сторона обзывает нас бунтовщиками". В общем, куда ни кинь, везде клин.
Вашингтон не опускался до уровня понимания событий, который в наше время назвали бы обывательским, а видел высший смысл происходившего - революция защищалась. Во время стояния у Морристауна он наконец приискал полезное занятие для ополченцев, вменив им в обязанность не допускать вылазок врага на американскую территорию, перехватывать п, если возможно, истреблять английских фуражиров, уничтожать припасы, которые могут попасть в руки солдат Хоу. Развернулась своего рода партизанская война, в которой ополченцы брали верх. Англичане чувствовали себя в Нью-Йорке как в осажденной крепости. Идеи, дорогие сердцу лондонского кабинета, вроде того, что в Америке полным-полно лоялистов, дали серьезную трещину. Хоу задним числом был вынужден объяснять покорность ньюджерсийцев под англичанами не верноподданническими чувствами, а развитым инстинктом самосохранения.
Раньше англичане считали, что умиротворение обширных просторов Америки не потребует больших издержек. Королевские войска очищают территорию, оставляют небольшие гарнизоны, опирающиеся на лоялистов, и идут дальше. Теперь выяснилось, что к покорности население таким способом не привести. Каждый район должен быть занят крупным отрядом, но стоит ему уйти, как бунтовщики возьмутся за свое. Английские стратеги справедливо рассудили, что это будет продолжаться, пока существует континентальная армия. Уничтожение ее, а не занятие территории представлялось задачей первостепенной важности. Стоит разбить Вашингтона, как исчезнет надежда на помощь, и народ склонит голову перед королем.
То были не бог весть какие сложные расчеты, которые отлично понимал Вашингтон. Он делал все, чтобы сохранить и укрепить армию, ибо, пока на горизонте маячила вооруженная мощь республики, у Англии не было надежд на окончательную победу. И снова все по тому же кругу - как заманить солдат под знамя родины. В марте 1777 года Вашингтон сообщал конгрессу, что у него осталось едва три тысячи бойцов, по-прежнему голодных, разутых, раздетых. Открылась новая кампания вербовки в континентальную армию, а штаты, особенно Массачусетс и Коннектикут, обещали за службу в ополчении большую плату и в твердой валюте. Вашингтон ввел смертную казнь для ловкачей, несколько раз вступавших на военную службу и, следовательно, обогащавшихся. Он заподозрил, что некоторые офицеры принимали на службу "мертвые души", по отчетам дезертирство в их частях достигло абсурдных размеров. Значит, прикарманиваются деньги, отпущенные на вступительное пособие защитникам республики. Он отказался от героического решения не брать никого, кто не соглашается служить менее трех лет, вернувшись к прежнему одногодичному сроку.
Доллар катастрофически обесценивался. К концу войны лошадь стала стоить 150 тысяч, пара сапог - 600, пара чулок - 700 долларов, на "воз долларов нельзя было купить воз продовольствия". Лоялистская газета в Нью-Йорке поместила объявление - закоренелый тори приобретал доллары на оклейку квартиры вместо обоев. Фермеры и торговцы не продавали ничего за подозрительные бумажки. Вашингтон приказал реквизировать продовольствие. Но он не мог приказать, чтобы в армии прекратились эпидемии. Больные лежали на грязной соломе в примитивных госпиталях. Попасть туда - означало идти на верную смерть. Легионы вшей с остывших трупов притягивало тепло живых, лежавших рядом.
К весне 1777 года американцы потеряли убитыми и пленными около пяти тысяч человек, еще несколько тысяч унесли болезни. Грубо говоря, выбыла примерно половина тех, кто взялся за оружие, чтобы отстоять независимость. Солдаты, вырвавшиеся из армии, разносили по стране вести об ужасах, которые они пережили. Каждый, понятно, преувеличивал личный опыт.
На все эти беды у Вашингтона был единственный ответ - нужна дисциплина. Она, конечно, помогала в борьбе с пьянством, или, как говаривали в армии, "бочковой лихорадкой". Но оспа и тиф не повиновались приказам. Вашингтон требовал поддерживать чистоту в лагере, заставлял всех делать прививки примитивными методами, известными веку. В поучение трусам он уговорил жену, наезжавшую в лагерь, сделать прививку против оспы. Хотя Вашингтон торопился собрать армию, все новобранцы проходили прививку - они переносили болезнь в легкой форме, что обычно занимало месяц. Церкви Мор-ристауна приютили толпы этих людей.
Только поздней весной армия начала медленно расти, достигнув к июню 8 тысяч человек. Вероятно, Вашингтон мог бы иметь больше людей, но он пуще всего боялся отойти от установленного принципа - не смешивать континентальную армию с ополчением. Впрочем, даже жители Морристауна думали, что в армии, по крайней мере, 40 тысяч штыков. Разместив части на значительном удалении друг от друга, Вашингтон отлично поставил дезинформацию, и при каждом удобном случае к англичанам просачивались фантастические данные об их численности. Как-то офицер ворвался в штаб, требуя ордера на арест английского шпиона. Вашингтон успокоил его, порекомендовал подружиться с агентом и дать ему возможность стащить документы, преувеличивавшие вооруженную мощь республики.
С начала 1777 года начали сказываться усилия конгресса относительно того, чтобы заручиться помощью за рубежом. В Париже трудился Дин, действовавший под видом торговца, что, впрочем, вполне соответствовало его склонностям. В сентябре 1776 года во Францию отправился Франклин. Американским представителям не нужно было перенапрягать себя, добиваясь поддержки Франции. Людовик XVI и его министры горели желанием рассчитаться с Англией за Семилетнюю войну. Перу Пьера Корона (Бомарше) принадлежала не только комедия "Севильский цирюльник" и многие пьесы, по и хитроумный план снабжения восставших в Америке вооружением, снаряжением и прочим. Объяснив королю великие блага для Франции от достижения колониями независимости, Бомарше получил первую субсидию - 1 миллион ливров - и основал подставное акционерное общество "Родригес Хорталес и К°".
Французские политики надеялись, вызвав к жизни Новый Свет, выправить баланс сил в Старом Свете, нарушенный английскими победами в Семилетней войне. 18 августа 1776 года Бомарше пишет континентальному конгрессу: "Мы будем снабжать вас всем - одеждой, порохом, мушкетами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне, которую вы ведете. Не ожидая ответа от вас, я уже приобрел для ваших нужд около двухсот бронзовых четырехфунтовых пушек, двести тысяч фунтов пороха, двадцать тысяч отличных мушкетов, несколько бронзовых мортир, ядра, бомбы, штыки, одежду и т. д. для войск, свинец для мушкетных пуль. Офицер превосходнейших качеств и знаток артиллерии в сопровождении артиллеристов, канониров и пр., который вам, мы думаем, весьма нужен, отправится в Филадельфию раньше, чем вы получите мое первое письмо. Этот джентльмен один из величайших подарков, который могло дать мое уважение к вам".
Бомарше восхвалял де Кудрея, который явился к Вашингтону с группой из 18 офицеров и 10 сержантов. Он сослался на С. Дина, обещавшего ему командование артиллерией континентальной армии. Вступив на американскую землю, де Кудрей был произведен конгрессом в генерал-майоры, причем признан по старшинству выше туземных генералов - Грина, Нокса и Салливана. Те возмутились и потребовали от конгресса восстановить справедливость, грозя отставкой. В конгрессе донельзя разъярились, ибо давно считали любое покушение на права достойного собрания однозначным подрыву американской свободы. Д. Адамс в бешенстве заметил: "И пусть все они убираются в отставку. Со своей стороны, я бы проголосовал за истинный принцип республиканизма - ежегодно избирать генералов".
Трудно сказать - репутация ли континентальной армии, или преклонение перед заморскими знатоками было причиной, но конгресс цепенел при виде воинов, приезжавших в США. Они получали высокие чины и, преисполненные сознания собственного величия, являлись в армию. Конфликт с де Кудреем не успел принять угрожающих размеров: с генералом случилось несчастье - он утонул. С другими у Вашингтона было хлопот хоть отбавляй.
Сначала он с отвращением относился ко всем французам без разбора. Уже французская речь будила в нем воспоминания о пятидесятых годах, беспощадных схватках с ними, злейшими врагами колонистов. "Все они, -o ворчал Вашингтон, - голодные авантюристы". Но жизнь брала свое - армии действительно были нужны специалисты, а при ближайшем рассмотрении не все приезжавшие из-за океана покушались на святая святых славной республики - ее деньги. Полковник Л. Дюпортей возглавил инженерное дело в армии, другие помогали организовывать артиллерию. Вашингтон не мог нахвалиться полковником Т. Конвеем, получившим чин бригадного генерала. В этом человеке, как показали ближайшие события, он крепко ошибся.
1 марта 1777 года в приказе по армии объявлялось, что "эсквайр Александр Гамильтон назначен адъютантом главнокомандующего, его следует уважать и слушаться в этом качестве". Двадцатилетний Гамильтон отличился как способный артиллерийский офицер. Несмотря на разницу в возрасте, а скорее из-за этого, Гамильтон стал ближайшим соратником Вашингтона. Он был первым из группы молодых людей, испытавших на себе нерастраченные отцовские чувства Вашингтона.
Итак, армия приходила в порядок, вооружалась и одевалась в основном поставками изобретательного Бомарше и готовилась к новым боям. Все оставалось в руках Вашингтона; что до конгресса, то к этому времени главнокомандующий выработал для себя определенные правила обращения с представителями, как они считали себя, всего народа. Вашингтон признавал главенство гражданских властей над военными. Этот принцип в его глазах был непоколебим. В не меньшей степени он был убежден, что гражданская власть, воплощенная в тогдашнем составе конгресса, оставляла желать много лучшего. Поэтому он повиновался институту, а не собранию конкретных лиц, служил высокой идее, внутренне презирая ее носителей. Он наверняка полагал, что лучше понимает ее, чем шумные и склочные конгрессмены.
Переписка главнокомандующего с конгрессом по форме была безупречной, с соблюдением всех необходимых правил приличия и уважения. По существу, Вашингтон обращался с членами конгресса как с детьми, да он и был старше многих, - из его пространных донесений нельзя было составить истинного представления о положении дел в армии. О собственных потерях почти не говорилось, неприятельские исчислялись астрономическими цифрами. Поражения именовались отходами, армии - отрядами и т. д.
В доверительном письме одному из считанных людей дела, Моррису, Вашингтон в это время открылся: "Не в моей власти заставить к-с отдать себе полный отчет в нашем истинном положении... Сидя на расстоянии, они думают, что стоит сказать - сделай то, и все делается, другими словами, они принимают решение, не вникнув или, по-видимому, не понимая трудностей и сложностей, стоящих перед теми, кому приходится выполнять их решение. Действительно, сэр, ваши замечания о том, что в этом уважаемом сенате не хватает множества умных людей, как нельзя лучше обоснованы".
Вероятно, между боями и трудами Вашингтон часто обращался мыслями к древним, как они вели дела. Отсюда описка, вскрывающая внутренний мир героя, именовавшего конгресс сенатом.
Пока Вашингтон укрывался с армией в холмах у Морристауна, английская пропаганда и языки американских тори работали без устали. В Лондоне вышла подложная переписка Вашингтона с женой и генералами. Поводом для появления фальшивок был, несомненно, рыцарский жест Хоу - когда ему доставили перехваченное письмо Вашингтона к Марте, он велел вернуть письмо, не распечатывая.
В тщательно подделанных письмах, будто бы попавших в руки англичан, Вашингтон представал, как коварны и муж, но заверявший супругу в великой любви. Генералу Гаррисону приписывались труды на специфическом поприще - он-де соблазнял негритянок в Маунт-Верноне в ожидании возвращения хозяина. Это самое возвращение, заверяли сочинители пасквилей, воспоследствует в самое ближайшее время - читайте сами - Вашиигтон-де ненавидит жителей Новой Англии и ждет не дождется, когда развяжется с военной службой. Тори были склонны верить худшему, и самые грязные сплетни из уст в уста распространялись по Америке. Недруги Вашингтона видели во вздорных поклепах резон - разве предводитель бунтовщиков не должен превзойти джентльмена Хоу, коротавшего время в обществе очаровательной бостонки Лоринг?
В действительности Вашингтон в Морристауне вел идиллическую жизнь. К нему приехала погостить Марта, собрались друзья из Вирджинии. Одна из дам писала своей сестре о буднях Вашингтона: "Благородный и приятный командующий командует всеми, ибо подчинил оба пола - один великим искусством в делах военных, другой способностью, изысканностью и вниманием". До обеда он занят службой, "с обеда до вечера он отдается светской жизни. Его достойная супруга вся светится довольством рядом со стариком (так она называет его). Мы часто совершаем прогулки верхом, тогда генерал Вашингтон сбрасывает с себя облик героя, становится разговорчивым и приятным. Иногда он бывает совсем дерзким, а такую дерзость мы с тобой, Фанни, любим".
Таким Вашингтона видели самые близкие люди в официальных случаях, а постепенно вся его жизнь приобретала такой характер, он стал утрачивать "быстрый и понимающий взгляд", поражал чопорностью и высокомерием. Величественные движения, поднятый подбородок не оставляли сомнения - шествует хозяин вооруженной мощи республики. Наверное, иным он сразу внушал почтение, и даже трепет. Серьезный человек, занятый серьезными делами, которые действительно были таковыми.
1777 год нес новые испытания Соединенным Штатам. От английского кабинета не укрылась тесная дружба американцев с Францией, дело определенно шло к оформлению союза между ними, а значит, появлению на стороне США армии и флота Людовика XVI. Отсюда следовал простой вывод - нужно раздавить по возможности скорее бунтовщиков, предотвратив очередную англо-французскую войну, а быть может, образование против Англии даже коалиции ее злейших врагов. По крайней мере, одержать звонкие победы в Америке, которые отобьют охоту у других соваться в имперские дела.
После некоторых колебаний Хоу поставил основной целью предстоявшей кампании овладение Филадельфией. Король и кабинет утвердили план, а следом - операции, предложенные английским генералом Бергойном, добившимся самостоятельного командования в Канаде. Он намеревался наступать на юго-восток, вдоль Гудзона, и "соединиться с Хоу". Как именно должно было произойти это соединение, уже сорвавшееся в прошлом году, осталось необъясненным. Ведь Хоу намеревался взять в экспедицию против Филадельфии основные силы своей армии, оставив в Нью-Йорке генерала Клинтона с относительно небольшим гарнизоном. Клинтон не был в состоянии содействовать Бергойну, выступив ему навстречу.
Нелепый план мог поставить в тупик кого угодно. Вашингтон, внимательно следивший за неприятелем, естественно, терялся в догадках. Он никак не мог отказать английскому командованию в здравом смысле и ожидал, что Хоу скорей всего двинется навстречу Бергойну или сосредоточит все усилия на овладении Филадельфией. О том, что Хоу и Бергойн собирались вести самостоятельные кампании, разумному человеку и в голову не приходило. А военный ужаснулся бы - в стратегических наставлениях давным-давно убедительно повествовалось о гибельных последствиях разделения командования.
С конца июня Хоу совершал таинственные маневры - то он вступал в Нью-Джерси, то отходил, затем следовало новое вторжение. Он полагал, что действует чрезвычайно хитроумно. Вашингтон придерживался иного мнения. Англичане явно хотели выманить континентальную армию с позиций у Морристауна и разбить ее в открытом поле. Хоу не удалось перехитрить "старого лиса" - Вашингтон также маневрировал, только с том расчетом, чтобы в случае похода англичан на Филадельфию перерезать их коммуникации и, если возможно, нанести удар с тыла.
Отчаявшись вызвать американцев на бой на своих условиях, Хоу вернулся в Нью-Йорк. Все было странно и непонятно. Вашингтон заподозрил, что англичане двинутся на север, на соединение с Бергойном. Из Канады пришли неутешительные вести - форт Тикондерога пал без единого выстрела (а он был умело укреплен польским волонтером Костюшко), американские генералы рассорились между собой, и войска Бергойна в сопровождении союзных индейских племен хотя медленно, но продвигаются через лесные чащобы и гиблые места. Вашингтон отправил отряд на помощь северной армии, а сам двинулся к Гудзону. Тут случилось известие - 24 июля англичане погрузились на суда в Нью-Йорке, и скоро паруса армады - 260 судов с 15 тысячами солдат - скрылись па горизонтом. Хоу исчез, но куда?
Наверное, решил Вашингтон, Хоу морем перевезет армию к Филадельфии и попытается взять столицу. Он погнал усталые от бесконечных переходов войска туда, заверив конгресс, что не "перестает оглядываться назад", ибо "маневр генерала Хоу, бросившего генерала Бергойна, совершенно непонятен". Рационализировать иррациональное было бесполезно - Хоу всецело разделял европейские предрассудки о вредности американского климата летом и счел полезным для здоровья солдат продержать их почти месяц на судах в открытом море. Со своей стороны, Вашингтон был уверен, что вода пагубна для американцев, и, когда на подходе к Филадельфии измученные солдаты затеяли купание в реке, он строго приказал "соблюдать умеренность!".
В Филадельфии конгресс раздирала склока - кто виноват в падении Тикондероги и кого назначить новым командующим на севере? Вашингтон наотрез отказался принимать участие в свалке и не проронил ни слова, когда конгресс остановился на кандидатуре генерала Гейтса. Тот отбыл на север, а Вашингтон остался в определенной душевной подавленности - Гейтс уже зарекомендовал себя человеком, склонным к неподчинению и интриганству.
В столице Вашингтону представили новых французов, только что прибывших в США. Среди них был двадцатилетний маркиз де Лафайет, близкий ко двору Людовика XVI. Он снарядил на своп средства корабль и приплыл в США сражаться против англичан. Рвение и богатство маркиза произвели сильнейшее впечатление на конгресс, который сразу произвел его в генерал-майоры, хотя в Париже молодой человек был всего капитаном. В этом качестве он и предстал перед Вашингтоном. Сначала главнокомандующий принял маркиза очень холодно, полагая, что перед ним очередной кондотьер. Искренность Лафайета, его неподдельный интерес к делу борцов за американскую свободу, дравшихся с врагами Людовика XVI, быстро растопили сердце Вашингтона. Они как-то потянулись друг к другу - Лафайет, осиротевший в детстве, и бездетный Вашингтон стал относиться к нему как к сыну, Лафайет платил горячей привязанностью. Французский маркиз стал одним из самых близких к Вашингтону, если не самым любимым генералом. Найдя друг друга, Вашингтон и Лафайет подчеркнуто гордились отцовско-сыновними отношениями.

Маркиз Лафайет
Перу Лафайета принадлежит описание тогдашней американской армии, он говорит о ней в третьем лице: "Их около 11 тысяч человек, неважно вооруженных и еще хуже одетых, они являли странное зрелище для глаз молодого француза. Пестрая одежда, а многие почти наги. Лучше всех были одеты те, кто носил охотничьи рубашки - просторные серые хлопчатобумажные пальто". Об офицерах, напудривших парики в предвидении встречи с ним, маркиз лишь заметил - они "полны рвения". Он заключил, что в американской армии "добродетель заменяет военную науку". Вашингтон сконфузился: "Нам очень стыдно показываться перед офицером, только что покинувшим ряды французской армии". На что Лафайет учтиво ответил: "Я приехал сюда не учить, а учиться".
22 августа поступили сообщения - английский флот объявился в Чезапикском заливе. Хоу не стал подниматься к Филадельфии по Делавэру, ибо американцы успели соорудить укрепления на берегах реки, прикрывшие подступы к столице водным путем. Англичане высадились в Чезапикском заливе. Маневр был совершенно непонятен - в июне Хоу в Нью-Джерси находился примерно в 100 километрах от Филадельфии, теперь он перебросил армию морем на 650 километров, чтобы оказаться в 100 километрах от города. Но раздумывать над причудами английского генерала было некогда. Вашингтон рванулся защищать столицу. Чтобы поднять боевой дух, оп распорядился провести войско церемониальным маршем через город.
В приказе о параде Вашингтон указал: "Оркестры должны играть быстрый марш, но умеренно, чтобы солдаты шли под музыку легко, отнюдь не пританцовывая или полностью игнорируя заданный ритм, как часто случалось в прошлом... Офицерам обратить особое внимание, чтобы солдаты держали свое оружие как следует и выглядели приличными, как надлежит в этих обстоятельствах... В рядах не должно быть ни одной женщины, находящейся с армией". Каждому надлежало быть в шляпе, а если таковой нет, воткнуть в волосы ветку с зелеными листьями. В знак надежды. Филадельфийцы два часа наблюдали за прохождением войск. Обыватели нашли, что видны некоторые признаки военной подготовки, строй держали, хотя солдаты и не отбивали шаг как положено.
Последние приготовления перед сечей. Вашингтон распорядился регулярно выдавать солдатам ром. Он наставляет конгресс: "Рекомендую устроить государственные винокурни в различных штатах. Польза от умеренного потребления крепких спиртных напитков установлена во всех армиях и не подлежит сомнению". Распорядительность главнокомандующего восхитила конгресс. Д. Адамс пишет: "Генерал Вашингтон подает прекрасный пример. Он изгнал вино со своего стола и потчует друзей ромом с водой. Это делает большую честь его мудрости, его политике и его патриотизму". Тем, кто упрекал Вашингтона в местничестве, неисправимом пристрастии к Югу, крыть было нечем. Ром - продукт Новой Англии.
Нерешительность и колебания, сопутствовавшие летней кампании 1777 года, появились и при попытке Вашингтона защитить Филадельфию. Они удваивались и обстоятельствами - континентальная армия вступила в края, заселенные квакерами. Они не были поголовно предателями, как склонны были утверждать ревностные патриоты, а просто, верные своим доктринам, были против любого кровопролития. Давать армии Вашингтона информацию о враге в глазах прекраснодушного квакера означало способствовать убийству, и поэтому местные жители с легкими сердцами притворялись, что они далеки от дел ратных. Континентальная армия шла навстречу неприятелю буквально с завязанными глазами, было неясно, с кем придется сражаться. Впрочем, выбор рубежа, на котором надлежало встретить Хоу, не зависел от местных жителей. Вашингтон рассчитал, что англичанам в любом случае на пути к Филадельфии придется форсировать реку Брандисвайн, где и стал с 11 тысячами.
Хоу решил повторить маневр, уже давший ему победу на Лонг-Айленде, - демонстративная атака в центре и обход главными силами американского фланга, на этот раз правого. 11 сентября разыгралось сражение. Вашингтон был твердо убежден, что задаст англичанам жару - их было около 15 тысяч. Он даже намеревался атаковать, как внезапно в штаб привели босоногого фермера. Тот клялся и божился, что прибежал к начальству доложить - несметные полчища движутся в тыл американцев. 10 тысяч Корнваллиса уже форсировали Брандисвайн выше по течению и спешат к месту боя. Вашингтон обменялся понимающими улыбками с генералами - проклятый предатель-тори подослан, чтобы сбить с толку защитников свободы. Они не успели решить, что сделать с негодяем, как канонада в тылу прекратила споры.

Планирование отступления. Военный совет после Лонг-Айленда
Вновь и в который раз американцы побежали, и снова так стремительно, что солдаты Хоу не могли настичь врага. Хотя и потрепанная, континентальная армия еще раз спаслась. Конгресс в ознаменование "доблестного поведения" армии в сражении при Брандисвайне вотировал выдать войску тридцать бочек рома. Два дня Вашингтон в относительной безопасности от врага "освежал" солдат, а затем - снова в поход. Он правильно рассудил, что цель Хоу в первую очередь уничтожить континентальную армию, занятие столицы дело второстепенное. Он отступил на восток в предгорье Аллеган, оказавшись примерно в 60 километрах от Филадельфии, где надеялся выждать и ударить в тыл англичанам, когда они пойдут на Филадельфию.
И снова те же заботы - армия, совершавшая почти полтора месяца непрерывные переходы, обносилась, обувь разваливалась. Вашингтон срочно отправил Гамильтона в Филадельфию приобрести одежду и обувь для солдат. Посланец натолкнулся на саботаж - торговцы не желали ничего продавать, ожидая вступления англичан в город, которые будут расплачиваться золотом, а не сомнительными долларами. Вашингтон приказал реквизировать потребное, но торговцы сумели так попрятать товары, что распорядительному Гамильтону почти ничего не удалось собрать, а он с солдатами перевернул лавки и склады вверх дном.
Хотя отступившая армия не пала духом (англичанам все же не удалось разбить ее), нарекания на Вашингтона множились. Поговаривали, что он по-прежнему нерешителен, малоспособен к командованию.
Тут случилась новая беда. Для наблюдения за неприятелем Вашингтон оставил неподалеку от Филадельфии легкую бригаду под командованием опрометчивого генерала Вайна. Он расположился лагерем около таверны Паоли. Разузнав о местонахождении бригады, англичане в ночь на 21 сентября напали на беспечных американцев, спавших у костров. Английские командиры рассудили, что лучше действовать штыками, и даже распорядились снять замки у мушкетов, чтобы случайным выстрелом не потревожить противника. В страшной ночной бойне было заколото около 200 американцев, несколько сот ранено, а 70 взято в плен. Англичане потеряли 7 человек.
Вести о бойне у Паоли вызвали трепет у молодых солдат континентальной армии, многим из них на биваках под открытым небом мерещился английский штык у груди. Они не хотели страшной молчаливой смерти и дезертировали. Гамильтон, натолкнувшийся в своих разъездах на большой отряд англичан поблизости от Филадельфии, счел долгом предупредить конгресс об опасности вражеского нашествия. Члены конгресса давно собрали вещи в дорогу и, получив ужасную весть, глухой ночью бежали из столицы сначала в Ланкастер, а затем в Йорк в Пенсильвании. Оказавшись в безопасности, "революционеры" стали роптать - какой толк в командовании Вашингтона, если он не может выиграть ни одной битвы? Что было совершенно несправедливо -генерал не переставал изыскивать случай расправиться с захватчиками.
26 сентября гренадеры и легкие драгуны Корнваллиса вступили в Филадельфию. Англичане поздравляли друг друга - труды были ненапрасными, наконец они в городе, буквально кишащем лоялистами. Толпы на улицах восторженно приветствовали войска, военный оркестр играл "Боже, храни короля". Все было волнующе и очень приятно, а впереди - сладостная гарнизонная жизнь в дружественном городе. Хоу пока не разделял восторгов своих воинов и потому распорядился большую часть армии - 9 тысяч человек - расквартировать в Джермантауне, что севернее Филадельфии, дабы быть между континентальной армией и столицей. Здесь же он стал со штабом.

Битва при Джермантауне
Вашингтон, узнав от лазутчиков о последних распоряжениях Хоу, пришел в восторг: враг рассредоточил свои силы. Есть возможность повторить славную битву у Трентона. К этому времени он начитался военной литературы и замахнулся на Канны, на меньшее Вашингтон не был согласен. Ганнибал, как известно, осуществил двусторонний охват противника, Вашингтон спланировал то же самое, но четырьмя колоннами. Был составлен весьма внушительный план, предусматривавший ночной двадцатипятикилометровый марш и молодецкий штыковой удар поутру 4 октября на Джермантаун. Колонна генерала Салливана (с ней был Вашингтон) на рассвете вышла к городу и даже опрокинула застигнутый врасплох английский батальон. Впервые за всю войну в красных рядах горны протрубили сигнал к отступлению, которому королевские солдаты повиновались охотно, и было отчего. Атакующих возглавляли уцелевшие во время резни в Паоли. Вайн, перекрывая треск мушкетных выстрелов, свирепо рычал: "Вперед на кровавых собак! Отомстим за Паоли!" Солдаты Вайна в плен не брали, убивая и тех, кто сложил оружие.
Утро выдалось туманное, клубы порохового дыма еще ухудшили видимость. В дымной мгле сотня с небольшим английских солдат укрылась в прочном каменном доме как раз на пути наступавших. Вероятно, нужно было обойти дом, поставив около него небольшой заслон. Но американцы решили воевать по всем правилам военной науки, а потому Нокс предложил Вашингтону сокрушить "форт" артиллерийским огнем. Канны требовали издержек, и Вашингтон согласился. Подтащили пушки и начали обстрел дома, стены которого оказались на диво толстыми. Время шло, враг не нес видимого ущерба.

Генерал Нокс
Тут подоспела вторая колонна генерала Грина, ударившая по англичанам на левом фланге Вайна. Охват как будто получился, если бы не злополучный дом - грохот орудий Нокса в американском тылу убедил Вайна, что коварные англичане, в свою очередь, как-то обошли американцев. Он повернул свою дивизию назад и лоб в лоб столкнулся с одной из дивизий Грина, потерявшей ориентировку. Американцы вступили в жаркую схватку между собой. Тут опомнившийся Хоу нанес удар, и континентальная армия вновь продемонстрировала свою способность стремительно отрываться от врага.
Беспорядочные толпы солдат бежали, Вашингтон, метавшийся среди них на коне, кричал, что они бегут от победы. Напрасно. Многие воины, расстрелявшие без толку порох, молча поднимали над головой пустые подсумки и со всех ног летели в тыл.
Канны не получились. Обе колонны континентальных войск убежали, две колонны ополчения, которым надлежало провести глубокий охват, ночью сбились с дороги и так и не появились на поле боя. К счастью, Хоу и Корнваллис, крайне удивленные дерзостью нападения, не упорствовали в преследовании, дав уйти континентальной армии.
На следующий день Вашингтон доложил конгрессу: "В целом можно сказать, что сражение было скорее несчастливым, чем тяжким для нас. Мы не потерпели больших потерь и вывезли всю артиллерию, за исключением одного орудия". Но очень скоро он узнал, что потери достигали почти тысячи человек. И новое огорчение - английский перебежчик рассказал, что противник собирался отойти как раз в тот момент, когда американцы ударились в бегство. Вашингтон пишет конгрессу: "С величайшим прискорбием я должен добавить, что все данные подтверждают мое первоначальное мнение - наши солдаты отступили как раз в тот момент, когда победа склонялась на нашу сторону... Я не вижу никаких причин, которые могут объяснить, почему мы не воспользовались этой возможностью, кроме отвратительной погоды".
Пятая встреча Вашингтона с Хоу на поле боя окончилась очередной неудачей. В приказе он воззвал к войскам: "Мы Великая Американская Армия. Мы покроем себя стыдом и позором, если каждый раз нас будут бить". Солдаты мрачно выслушали справедливые слова главнокомандующего и с удвоенным рвением стали ругать командиров, и это было справедливо. По ту линию фронта достижения англичан также не вызывали бурного восторга. Некий лоялист обозлено заметил: "Любой другой генерал, только не Хоу, побил бы генерала Вашингтона, а любой другой генерал, только не Вашингтон, побил бы Хоу".
Полководцы не питали друг к другу личного озлобления и в дыму сражений остались джентльменами. Вскоре после сражения у Джермантауна Вашингтон, как он писал, выполнил "приятный долг" - со специальным нарочным в английский лагерь он отправил собаку, попавшую к американцам, которая, "как видно по надписи на ошейнике, по-видимому, принадлежит генералу Хоу".
* * *
В тот фатальный октябрь, когда армия Вашингтона не преуспела против Хоу, на севере страны судьба широко улыбнулась американцам. Талантливый драматург, но посредственный военачальник Бергойн с шеститысячным войском был окружен у Саратоги превосходящими силами - 5 тысячами солдат континентальной армии и 12 тысячами ополченцев. Англичане съели продовольствие, расстреляли порох, и, не видя иного исхода, 17 октября Бергойн сдался. По Соединенным Штатам разлилась волна торжества - крупная по масштабам войны английская армия сложила оружие. Ликованию по поводу капитуляции не было конца, хотя Бергойн сдался на условиях, отнюдь не дававших основания говорить о ней.
Все солдаты Бергойна по сдаче оружия должны были быть отправлены в Европу с условием, что они никогда не будут больше воевать против США. Лондон даже при выполнении обязательств смог сменить ими другие войска, которые, несомненно, явятся в США. Впрочем, до таких хитроумных расчетов английские генералы не поднялись - они уже постановили: перебросить побитую армию в Нью-Йорк, перевооружить и немедленно употребить ее для дальнейших боевых действий. Не зная всего этого, Вашингтон и конгресс, тем не менее, распорядились - ни под каким видом не отпускать пленных. Они были задержаны до окончания войны и только в 1785 году вернулись на родину. К тому времени из пяти тысяч пленных полторы тысячи решили поселиться в США.
Но все это произойдет в будущем, а в октябре 1777 года Америка приветствовала победителя при Саратоге генерала Гейтса как спасителя страны. Языкатые патриоты не замедлили указать на резкое различие между северной армией Гейтса и южной армией Вашингтона. Саратога поравняла Гейтса с главнокомандующим, а в глазах многих, и в первую очередь самого триумфатора, сделала его верховным военным вождем республики. Он, сын мелкого домовладельца, уже видел себя таковым и повел соответственно, поторопившись, прежде всего, дать прочувствовать свое новое положение Вашингтону.
В штабе континентальной армии под Филадельфией тщетно ожидали официальных вестей с севера. Гейтс сообщался прямо с конгрессом, оставив Вашингтона с его генералами питаться слухами. Главнокомандующий, поздравив Гейтса с "выдающейся победой", мягко упрекнул его: "Не могу не выразить сожаления, что столь важное дело и столь затрагивающее весь ход войны стало мне известно только по слухам и письмам, а не из сообщения, пусть краткого, одной строчки, но за вашей подписью, что соответствовало бы значимости этого события". Естественно, Вашингтону нужно было объяснять очевидный контраст положения дел на южном и северном театрах, что он не уставал делать в бесчисленных письмах.
Успех Гейтса у Саратоги был бы невозможен без своевременной помощи южной армии. Вашингтон послал на север вирджинских стрелков Моргана, способнейших военачальников Линкольна из Массачусетса и Арнольда. Теперь главнокомандующий считал себя вправе получить, в свою очередь, поддержку Гейтса. Он направил к нему Гамильтона с требованием немедленно отрядить на юг по крайней мере двадцать полков.
В Йорке, где обосновался конгресс, звезда Вашингтона медленно меркла. Их осталось мало, первоначальных членов конгресса, - только шестеро из числа одобривших в 1775 году кандидатуру вирджинского джентльмена на пост главнокомандующего. А на заседании конгресса нередко собиралось менее двадцати человек. От этого их критика Вашингтона не становилась слабее. Конгресс постановил отметить Саратогу днем молитвы, а Д. Адамс прокомментировал в письме жене: "Одна из причин празднования состоит в том, что слава в этой схватке не принадлежит непосредственно главнокомандующему или южным войскам. Если бы это было так, тогда идолопоклонство оказалось бы безграничным, что поставило бы под угрозу наши свободы". В конгрессе Адаме оплакивал "религиозное почитание, которое иной раз имеет место в отношении генерала Вашингтона", сурово осудив тех коллег, кто "склонен собственными руками творить себе кумира".
Недовольство конгресса подогревалось интригой в высшем командовании армии. В толпах иностранных офицеров, навербованных в Европе Дином и Франклином, был полковник французской службы Т. Конвей, которому конгресс присвоил чин генерала в обход многих претендентов-американцев. Хвастливый и, что еще хуже, говоривший без умолку, Конвей почитал себя стратегом и, хотя был обласкан Вашингтоном, претендовал на большее. Он решил связать свою судьбу с Гейтсом, о чем уведомил генерала льстивым письмом, в котором заодно поносил Вашингтона. Доброхоты немедленно донесли обо всем главнокомандующему, который в изрядных муках творчества сочинил короткое и достойное послание зазнавшемуся генералу: "Сэр, в письме, полученном мною вчера, содержится следующее утверждение: "В письме генерала Конвея генералу Гейтсу сказано - Небеса решили спасти вашу страну, ибо в противном случае слабый генерал с дурными советниками погубили бы ее". Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой. Джордж Вашингтон". "Дурные советники", ворчал Вашингтон, в штабе, и Конвей "один из них".
Конвей, конечно, стал объясняться. Гейтс, в свою очередь, дознавшись, кто виновен в разглашении переписки, нашел виновного - собственного адъютанта - и обошелся с ним так, что тот вызвал начальника на дуэль. Победитель при Саратоге предпочел помириться с обиженным и поступил очень разумно - нужно было думать не о прошлом, а о будущем. Конгресс открыл перед генералом блистательные перспективы - формально в ответ на настойчивые просьбы Вашингтона найти "новые средства" помочь армии, было решено основать Военное управление, реорганизовав уже существующий комитет конгресса. Гейтс был поставлен во главе нового ведомства, на бумаге выше Вашингтона. Конвей занял вновь учрежденный пост генерал-инспектора.
Они все, ненавистники Вашингтона, собрались там, в Военном управлении, и стали судить и рядить, как вести войну. Конвей победоносно явился в штаб Вашингтона и вручил ему резолюцию конгресса о последних новшествах. Глядя в лицо наглецу, главнокомандующий сдержанно осведомился, привез ли генерал-инспектор указания Военного управления о дальнейших операциях. Конвей признался, что у него ничего нет. Тогда, спокойно продолжал Вашингтон, ему следует подождать поступления их, а адъютанту приказал показать Конвою дверь.
Конвей с удвоенной энергией принялся поливать грязью Вашингтона, а заодно американских генералов вообще. Издевательские письма Конвея, в которых он отзывался о Вашингтоне как о дилетанте в военном деле, открыли старые раны главнокомандующего. В памяти всплыли мучительные воспоминания об оскорблениях в годы индейских и французских войн, когда его, полковника вирджинского ополчения, третировали офицеры британской армии. Одно время Вашингтон носился с мыслью вызвать Конвея на дуэль и пристрелить его как собаку. Но образумился, ибо куда более проворные интриганы орудовали в Йорке.
В Военном управлении подвизался Миффлин, еще недавно начальник тыла континентальной армии, дезертировавший со своего поста и пригретый в Йорке. Вашингтон не без оснований подозревал, что интендант нагревал руки на военных поставках. Миффлин полагал, что надежно защищен от гнева главнокомандующего, разве не сам Вашингтон просил тыловиков продать по сходной цене 50-100 выбракованных лошадей для Маунт-Вернона, предупреждая держать дело в тайне, ибо "хорошо известно, что самые невинные и честные действия часто ложно истолковываются".
Мышиная возня в Йорке, наконец, завершилась гигантским проектом - организовать зимнее вторжение в Канаду. Военное управление убедило конгресс, что это наиразумнейшая операция, профессионалы с Вашингтоном во главе высмеяли саму идею, выставив против нее убедительные аргументы. Тем временем причитания Конвея по поводу некомпетентности американских военных вызвали яростное негодование в армии. Вашингтон с неоспоримым чувством юмора наблюдал за тем, как офицеры континентальной армии повадились ездить в Йорк, где запугивали политиканов. Адъютант генерала Грина рассудительно разъяснял желавшим слушать за стаканом рома, как "несколько унций пороха в надлежащем ружье достигнут прекрасной цели". Один из зловредных сплетников, член Военного управления Петерс, закрыл рот - за ним по грязным улицам Йорка тенью ходил некий гигант с кентуккским ружьем. Миффлин с трудом избежал дуэли с разъяренным генералом. Конвей не сумел увернуться - преданный Вашингтону генерал на дуэли прострелил "иностранцу" шею. Оправившись от раны, Конвей убрался во Францию.
Таково было лицо событий, приведших к провалу планов сместить Вашингтона или заставить его уйти в отставку. Изнанка их была много сложней. Горячие сторонники Гейтса, вознесшие его после Саратоги, с течением времени призадумались. Генерал олицетворял в глазах имущих, а они и заседали в Йорке, ненавистную "чернь". Припомнили, что он вдохновлял ополченцев достаточно прозрачными речами насчет социальных изменений. Гейтс представлял левое крыло революции, плантаторы и банкиры не могли не заключить - он бы наделал бед, если бы получил вооруженные силы республики.
Перед этой опасностью, конечно, пока только эвентуальной, меркли подозрения в отношении Вашингтона в том, что он, подобно полководцам времен Древнего Рима, домогается тоги диктатора и, будучи вождем постоянной армии, может когда-нибудь выступить свободогасителем в Америке. Во всяком случае, в Йорке были твердо убеждены, что имеют сильнейшее противоядие яду честолюбия, если оно овладеет полководцем. В ноябре 1777 года конгресс разослал штатам "Статьи конфедерации" - первую американскую конституцию. В ней центральная власть подчеркнуто ослаблялась. Хотя в США была континентальная армия, в "Статьях конфедерации" трактовалось о том, что каждый штат будет иметь свои собственные вооруженные силы. Но даже в этом виде конституция вызвала острые споры и была ратифицирована штатами только в 1781 году.
Политическое мышление Вашингтона оставило позади осторожные схемы конгресса. В то время как в Йорке пеклись о том, какие препятствия поставить на пути усиления центральной власти, Вашингтон полагал, что только в континентальной армии и войне выковывается единство нации. Когда был заключен мир, он заметил: "Сто лет нормальных взаимоотношений" между штатами не сделали бы для американской государственности столько, сколько "дали семь лет вооруженного сотрудничества".
Зимой 1777/78 года помянутое оружие единства страны - континентальная армия впала в самое плачевное состояние, и отнюдь не по вине Вашингтона.
* * *
То была поистине глухая ночь войны, во мраке которой родилась самая волнующая, нет, душераздирающая легенда революции - Вэлли-Фордж.

Зима в Вэлли-Фордж
Армии нужно было стать на зимние квартиры, и Вашингтон нашел место, точнее, его вынудила к этому легислатура Пенсильвании, боявшаяся ухода войск из штата, на безлюдных, унылых холмах примерно в тридцати километрах к северо-западу от Филадельфии. Оно и называлось Вэлли-Фордж. Художник, рисовавший летом сельские пасторали в духе XVIII века, вероятно, нашел бы холмы прелестными и даже романтическими - солдаты, которых привел сюда Вашингтон в середине декабря 1777 года, отчаянно ругались. Им предстояло стать лагерем на всю зиму в местах, где не было жилья, в округе, опустошенной войной.
Вашингтон распорядился строить жилье - домики четыре на пять метров с земляным полом, каждый на двенадцать солдат. В офицерских домах пока единственное отличие - деревянные полы. Всего 1100 домиков. Велено было соорудить госпитали, склады. Пока устроились, солдаты неделями спали в палатках и у костров.
Не хватало всего - одежды, обуви, продовольствия. Не успели прийти в Вэлли-Фордж, как Вашингтону доложили: 2898 солдат "босы или голы". Спустя несколько недель цифра подскочила до 4000. Вашингтон объявил премию - десять долларов умельцу, который изобретет "замену башмакам". Дело далеко не подвинулось - солдаты пятнали снег кровавыми следами, заодно затоптав и патриотическую летопись войны за независимость. Разве страдания в Вэлли-Фордж, где умерло от болезней и истощения около двух с половиной тысяч человек, были неизбежны?
Американские историки единодушно отвечают - нет! Континентальная армия претерпела страшные муки той зимой не столько от врага, сколько от алчности соотечественников. Слов нет, в Вэлли-Фордж прокормиться было трудно, но вокруг всего было в изобилии. Солдаты голодали, ибо окрестные фермеры предпочитали продавать свои продукты англичанам в Филадельфию за твердую валюту. Торговцы зерном в Нью-Йорке по тем же соображениям предпочитали снабжать английскую армию, а поставщики в Бостоне отказывались опустошить содержание складов, если прибыль была менее 1000- 1800 процентов. Америка сражалась за свою независимость в тяжком пароксизме спекуляции и бесстыдной наживы. Фуражиры, высылавшиеся из Вэлли-Фордж, иногда перехватывали тяжело груженые подводы, направлявшиеся в Филадельфию, и без лишних слов заворачивали их в свой лагерь. Владельцев, если они настаивали на священном праве частной собственности, пристреливали или вешали.
Вашингтон не одобрял этой практики, вносившей ненавистный ему элемент анархии в ведение войны. Он взывал к конгрессу, требуя расследовать, почему армия раздета и разута, "ведь тот факт, что у нас нет одежды, вызывает всеобщее удивление - всем известно, что только восточные штаты могут дать одежды на 100 тысяч человек". И личная нотка. В письме генерал-интенданту главнокомандующий негодовал: "Я даже не могу достать одежду для моих слуг вопреки неоднократным обращениям в течение двух последних месяцев. Один из них, прислуживающий лично мне за столом, неприлично и постыдно наг". Звучал голос респектабельного плантатора, но отнюдь не главнокомандующего армии революции. Джентльмен не уточнил, в чем именно нуждался тот самый слуга, ибо политес XVIII века диктовал свои законы. Французские офицеры, принесшие на американскую землю куда более свободные нравы, стали обзывать сборище в Вэлли-Фордж "санкюлотами", что, как известно, означает "бесштанники". Термин этот, вскоре прогремевший во время французской революции, родился именно здесь.
Обозревая прискорбное состояние армии - голые и босые солдаты, пушки, вмерзшие в землю, и без надежды сдвинуть их, ибо лошади передохли, Вашингтон 23 декабря разразился яростной филиппикой в адрес конгресса. Обычно он писал сухими и банальными фразами, но на этот раз, казалось, сердце рвалось у него из груди: "Ныне я убежден, вне всякого сомнения, что, если не будут немедленно проведены коренные изменения, нашу армию ждет один из следующих трех исходов - умереть с голоду, распасться или разбежаться, чтобы добыть себе пропитание как можно". Описав прискорбное состояние вверенных ему войск, Вашингтон с плохо сдержанным гневом отозвался о политиках, ждавших от армии энергичной зимней кампании. "Могу заверить этих господ, что значительно легче сочинять упреки в уютной комнате у теплого камина, чем занимать промерзший унылый холм и спать под снегом на морозе без одежды и одеял. Но, если этих господ, вероятно, не трогает судьба нагого и бедствующего солдата, я всем сердцем с ним, от всей души оплакиваю его ужасное положение, которое не в состоянии исправить".
Когда главнокомандующий, погруженный в тяжкие раздумья, медленно прохаживался по лагерю, солдаты высовывали головы из лачуг и негромко, но достаточно внятно провожали его возгласами: "Нет хлеба, нет солдата". Он слышал эти голоса, пристально вглядывался в огромные на исхудавших грязных лицах глаза. В одном из посланий конгрессу Вашингтон жаловался, что в лагере нет мыла, но, саркастически добавил он, люди в нем почти не нуждаются, так как "лишь у немногих есть больше одной рубашки, у многих только лохмотья, а иные вообще голы". Спекулянты в это время наживались за счет бедствующей армии, в лагерь доставлялось мало продовольствия и одежды и по бешеной цене.
Вашингтон не столько боялся врага, сколько со дня на день ожидал бунта и мысленно прикидывал, что предпринять на крайний случай. Наконец, день настал - адъютант доложил, что к дверям штаба пришла толпа солдат и требует (неслыханный случай!) переговорить с генералом. Вашингтон внутренне сжался - вот оно, долгожданное. Его глаза сузились, в уме он подыскивал убедительные слова, но скоро слезы заструились по его щекам. Дрожавшие на холоде люди (иные были закутаны в рваные одеяла, через которые просвечивало тело) заверили, что они понимают трудности своего генерала и просят только подтвердить, что и он знает об их участи. "Они наги и умирают с голоду, - писал Вашингтон, - но мы не можем не нахвалиться несравненными терпением и верностью солдатской массы". В приказе по армии он поздравил ее с тем, что в труднейших условиях личный состав показал себя "достойным завидной привилегии отстаивать права человека".
Минул тяжелый январь, а с февраля 1778 года положение постепенно улучшилось. Быть может, сначала это объяснялось уменьшением числа едоков - помимо умерших, около двух тысяч дезертировало только в Филадельфию, до трехсот офицеров отказались от дальнейшей службы. Оставшиеся, пережив жуткую по лишениям, но не холоду зиму, осваивались в Вэлли-Фордж. К Вашингтону приехала Марта, постаравшаяся облегчить словом и делом страдавших в примитивных госпиталях. Французский доброволец, видавший ее, записал: "Она напоминает мне римскую матрону, о которых я столько читал, и я считаю, что она по достоинству спутница жизни и друг величайшего человека нашего времени". Сравнения с античными временами в дни Вэлли-Фордж, конечно, были в ходу. Д-р А. Уолдо из Коннектикута лаконично помечал в дневнике: "Скверная еда, скверное жилье, холод, усталость, нет одежды, мерзкое питание - меня рвет полдня, дым от костра ест глаза, черт возьми, больше не могу. Ну вот несут миску супа, полную горелых листьев и грязи, тошнотворного, даже Гектор отплюнулся бы, к дьяволу ее, ребята, я буду жить, как хамелеон, питаясь воздухом!"
Среди неописуемых страданий в среде офицеров рождалось братство по оружию. Они как могли развлекались, молодость брала свое, а в XVIII веке великие по масштабам века люди редко были старше сорока лет. Безусые юнцы считали себя зрелыми людьми и многоопытными солдатами. Группа юных офицеров дала званый обед. На него приглашались только те, кто после тщательного осмотра не мог предъявить целых брюк. Из того, что при большом воображении можно было назвать ромом, сделали пунш, подожгли отвратительную сивуху и пили "саламандру" как есть - горящую. Голосами, какими зовут паром с дальнего берега широкой реки, ревели песни и баллады. "Столь веселых оборванцев, - изумлялся французский офицер, - никогда не видывали". Такова была другая сторона Вэлли-Фордж, армия привыкла к лагерю, обстроилась и устроилась. Никто больше не чувствовал себя "Ионой в чреве кита" (слова д-ра Уолдо), как в первые недели. Давали любительские театральные представления, и заметно поседевший Вашингтон с невыразимой печалью смотрел, как новое поколение играло роли в той самой драме Аддисона "Катон". Он приветствовал выбор пьесы.
Дни становились длиннее и теплее, лица солдат округлялись - удалось, наконец, наладить доставку продовольствия. В один из погожих дней поздней зимы Вашингтон выехал встретить высокопоставленного добровольца, найденного в Европе Дином и Франклином, -генерал-лейтенанта прусской службы Фредерика Вильяма Августа Фердинанда барона фон Штебена. На боевом коне он являл собой величественное зрелище: старый воин, овеянный пороховым дымом в сражениях Фрндриха Великого. На груди ослепительно начищенная медаль размером с тарелку и сияние бриллиантов ордена. Штебен уже заверил Вашингтона специальным письмом: "Ваше превосходительство - единственный человек, под командованием которого я хочу после службы королю Пруссии отдаться возлюбленному мною искусству, которому я посвятил всю свою жизнь".
Когда великолепный Штебен сошел с коня, все увидели пожилого немца с короткими кривыми ногами. Вскоре выяснилось, что не был он ни бароном, ни генералом, а служил капитаном под прусскими знаменами. Не теряя ни минуты, Штебен начал обучать неуклюжих парней тонкостям прусского строя, и в суровом ратном деле раскрылись его качества доброго человека. На грязном снегу под смех глазевших, избранные для обучения роты, а потом полки совершали перестроения, учились держать мушкеты на европейский манер. Ряды сначала путались, колонны никак не получались, а в дьявольской сумятице метался Штебен. Он не знал английского, и команды переводил офицер, кое-как понимавший скверный французский немца. Штебен дополнял их жестикуляцией, энергично ругаясь на родном языке. Он попытался быстро освоить английскую брань. Неизбежные ошибки Штебена в незнакомом языке удваивали неразбериху на плацу. Тогда он звал адъютанта, и они вместе принимались поносить этих "болванов".
Пусть со смехом, руганью и криком, но дело пошло. Штебен оказался способнейшим педагогом, быстро обнаружив разницу между американцами и европейцами. Он писал приятелю в Европу: "Эту нацию нельзя сравнить с французами, пруссаками или австрийцами. Ты говоришь своему солдату - делай так, и он выполняет, но я вынужден сначала объяснить, зачем это нужно, и тогда местный солдат повинуется". Офицеры армии республики испытали, общаясь со Штебеном, крайне неприятное потрясение. Они, взявшиеся воевать за свободу и дравшие нос перед рабами монархов, увидели: европеец встает с рассветом, весь день в грязи на плацу, учит собственным примером. Он очень неодобрительно отнесся к тому, что американские офицеры устроили себе в конце концов в Вэлли-Фордж удобные дома подальше от рядов грязных солдатских жилищ, использовали солдат в качестве слуг, а главное, передоверили обучение солдат сержантам. За несколько месяцев усилиями Штебена все изменилось, американский офицер стал ближе к солдату.
Вероятно, под влиянием неистового немца, которого Вашингтон искренне полюбил, пришлось главнокомандующему поступиться частью своих взглядов, особенно о величине дистанции между офицерами и солдатами. Теоретически плантатор, вне сомнения, обнаружил прекрасные стороны характера и у простых людей. Но он считал, что воины республики, прошедшие через испытания войны, перезимовавшие в Вэлли-Фордж, заслуживали большего, чем похвалы в приказах. Объясняя конгрессу необходимость сохранения за офицерами, уходящими в отставку, половины содержания и выдачи пособия солдатам, Вашингтон под свежим впечатлением зимы 1777/78 года писал:
"Даже поверхностное знание человеческой натуры убеждает нас, что для подавляющей части человечества руководящий принцип - личный интерес, и почти каждый человек в той или иной степени находится под его влиянием. Мотивы общественного блага могут на время и в особых обстоятельствах побудить человека к бескорыстному поведению, однако самих по себе их недостаточно для обеспечения постоянной верности возвышенным велениям и обязательствам общественного долга. Только немногие способны продолжительное время жертвовать всеми личными интересами или выгодами ради всеобщего блага. Тщетно в этой связи проклинать испорченность человеческой натуры, просто таков факт, подтвержденный опытом всех веков и народов. Мы должны были бы значительно изменить людей, прежде чем ожидать, что они будут поступать по-иному". Таков был итог размышлений Вашингтона в горниле войны за независимость. Даже обаятельный и распрекрасный Штебен "туманно признался" (как выразился Вашингтон), что не может позволить себе служить без вознаграждения. О своих трудах на поприще защиты отчизны Вашингтон думал по-другому, взывая к патриотизму. Что до континентальной армии, то после зимовки в этих негостеприимных местах она стала походить на организованную вооруженную силу, а Штебен (которого иногда называют отцом американской армии) научился ругаться на трех языках одновременно.
* * *
Слухи эти согревали в зиму тревоги, придавали неповторимое очарование долгожданной весне - наголодавшиеся защитники прав человека ожидали выручки от христианнейшего короля Людовика XVI. Французские волонтеры долгими зимними вечерами рассказывали провинциалам-американцам о Париже, мощи Франции, ее неоспоримой ненависти к Англии и добром сердце дражайшего монарха. В те времена новостей из Старого Света приходилось дожидаться месяцами, и фантазеры часто живо рисовали, что происходит в эту самую минуту в далеком Версале.
Присутствие Франции уже было ощутимо - в сражениях, приведших к капитуляции англичан при Саратоге, американцы почти поголовно были вооружены французским оружием. В ту зиму в Вэлли-Фордж армия получила несколько тысяч башмаков из Франции, к глубокому разочарованию, в них оказалось невозможным обуть босых: европейская обувь не лезла на медвежьи лапы здоровяков американцев. Вашингтон был готов видеть королевские лилии рядом со звездным знаменем. Он не абсолютизировал свои воспоминания молодости, а судил по фактам. "Франция, - писал главнокомандующий, - своими припасами спасла нас от ига".
Поздней весной армия жадно ожидала официального сообщения о вступлении Франции в войну, неизбежность которого, заверяли французские офицеры, несомненна. Вашингтон слал депешу за депешей конгрессу, прося скорее обрадовать войска. Из Йорка пока ни слова. Но 5 мая 1778 года в лагерь попал экземпляр трехдневной давности "Пенсильвания газетт" с сообщением о том, что Людовик XVI обнажил шпагу в интересах независимости США. Лафайет плакал от радости, Вашингтон, поглядывая на любимца, принялся диктовать приказ, давая волю чувствам, затопившим штаб:
"Общий приказ. 5 мая 1778 года, 6 вечера. Всемогущий Правитель Вселенной милостиво защищает дело Соединенных Американских Штатов и наконец дает им в друзья одного из могущественнейших монархов на земле, дабы установить нашу Свободу и Независимость на прочном основании. Нам надлежит посвятить день, дабы отблагодарить за небесную Доброту и отпраздновать событие, которому мы обязаны Его благосклонному вмешательству. Завтра в 9 утра построить бригады, а капелланам огласить сообщение "Газетт" от 2 мая, произнести благодарственную молитву и выступить с речью, приличествующей случаю". Засим предписывалось провести смотр боевой готовности армии, отдавались распоряжения насчет салютов, о выдаче каждому солдату по доброй чарке рома. В торжественный день всем офицерам и солдатам приказывалось прикрепить по букетику цветов к головному убору.
Импресарио Штебен с несомненной любовью к драматическим эффектам организовал парад как нельзя лучше. Когда отзвучали речи капелланов и бригады, взяв оружие, перестроились в боевые порядки, сомнений быть не могло: перед Вашингтоном была дисциплинированная армия. На поле раздавался лай команд, подававшихся вниз по инстанции от бригадных генералов до сержантов. Колонны быстро развернулись в длинные линии. Пауза, тринадцать орудийных выстрелов, и вот затрещали выстрелы. Стреляли плутонгами, начиная с правого фланга. Огонь весело проносился по шеренгам солдат. Снова салют и торжественный марш - военные музыканты сыгрались, и перед Вашингтоном, ощетинившись штыками, прошествовали бригады. Парад завершили оглушительные вопли: "Да здравствует король Франции! Да здравствуют дружественные европейские державы!"
И, наконец торжествующее - "Да здравствуют Американские штаты!".
Солдат распустили, а офицеры направились к празднично накрытым столам. Супруги Джордж и Марта величественно приветствовали гостей, пристойно поглощая обильный обед под взглядами сотен глаз - столы были составлены в виде амфитеатра. Было много вина, цветов и музыки. "Я никогда не видел, - писал один из штабных офицеров, - такой искренней радости на лицах. Обед закончился серией патриотических тостов, покрывавшихся криками "ура!". Когда генерал встал, чтобы - уйти, со всех сторон раздались аплодисменты, прерывавшиеся здравицами в его честь. Это продолжалось, пока он не удалился на четверть мили, в воздух взлетали тысячи шляп. Его светлость повернулся со своей свитой и, в свою очередь, несколько раз возгласил "ура!".
Вернувшись в свою резиденцию, слегка опьяненный радостью и вином, Вашингтон быстро стряхнул память о прекрасном дне. Он обратился к делам. Теперь, когда Франция схватилась с Англией, разразится война в Европе, Америка приобретет для Лондона второстепенное значение. Быть может, его славную армию больше не ждет новая кампания. "Спокойствие и ясность, - писал он, - вероятно, в известной степени сменят мрачные грозовые тучи, которые моментами, казалось, были готовы поглотить нас. Игра независимо от того, плохо или хорошо она велась до сих пор, вероятно, быстро приближается к благоприятному исходу". От мыслей государственных только шаг к делам личным. Вашингтон набрасывает письмо приемному сыну, категорически запрещая расстаться хотя бы с акром земли, каковы бы ни были финансовые затруднения. "Земля, - наставляет он, - вечна, цены на нее стремительно растут и будут очень высоки, когда мы обретем независимость".
Вашингтон был совершенно прав. Вступление Франции в войну против Англии круто изменило стратегическую обстановку. По договору о союзе, подписанному 6 февраля 1778 года, Франция и США провозглашали, что их цель - "достижений полной и ничем не ограниченной независимости Соединенных Штатов". Союзники взаимно гарантировали владения друг друга в Америке, которыми они могут располагать в конце войны. Следовательно, Франция обязывалась защищать американскую территорию, а США - французские владения в Вест-Индии. Стороны обязывались не заключать сепаратного мира. Был также подписан договор о дружбе и торговле, предусматривавший, помимо прочего, оказание взаимной помощи в войне на море.
В Лондоне пытались сначала предвосхитить, а затем нейтрализовать последствия вступления Франции в войну. Английский кабинет обратился к США с новыми мирными предложениями, очень либеральными по прежним временам. Министры короля опоздали - эти предложения американцы, без сомнения, приняли бы в 1775-1776 годах. Но теперь, когда на стороне США стояла Франция, а Испания и Голландия проявляли растущую враждебность к Англии, конгресс не желал и слышать о мире. О чем высокомерно и сообщили английским представителям, явившимся в мае 1778 года в Америку. Генерал Вашингтон горячо поддержал политиков. Помимо прочего, он подвергся новому тяжкому оскорблению - до него дошли достоверные сведения, что в Лондоне считали главнокомандующего континентальной армии способным принять взятку и помочь осуществлению английских планов. Для джентльмена из Вирджинии это было просто нетерпимо, он всегда считал, что живет по куда более высокому кодексу чести, чем знать, пресмыкавшаяся при дворах европейских монархов.
Генерал Хоу, проведший очень веселую зиму в дружественной Филадельфии, пока воины Вашингтона мучились неподалеку в Вэлли-Фордж, серьезно отнесся к союзу мятежников с Францией. Война в Америке ему смертельно надоела. Зимой 1777/78 года он неизменно игнорировал добрые советы лоялистов выступить и уничтожить армию Вашингтона, о бедственном положении которой англичане прекрасно знали. Хоу предпочитал балы, театральные представления и прочее в обществе Бетси Лоринг превратностям зимней кампании. Из бесконечных стычек с голодными фуражирами континентальной армии, иной раз добиравшихся до окраин Филадельфии, в штабе Хоу вывели неприятное заключение - как бы ни бедствовали янки на тех холмах, они люди решительные и жестокие. В перспективе никак не виделось приятной, упорядоченной кампании, а мрачная кровавая схватка с озлобленными солдатами Вашингтона, даже если она выльется в утомительное преследование.
Теперь, когда союз США с Францией грозил превратить тыл английской армии - Атлантику - в театр морской войны, Хоу решил: с него достаточно. Он обратился к лорду Джермену с просьбой освободить его or "очень тягостной службы". В начале мая 1778 года он передал командование генералу Клинтону, приехавшему в Филадельфию из Нью-Йорка. 24 мая Хоу отбыл в Англию, на прощание сердечно посоветовав лоялистам помириться с мятежниками. Лоялисты, измученные бездействием Хоу минувшей зимой, были повергнуты в ужас, когда новый английский командующий хладнокровно объявил свое решение: королевская армия оставляет Филадельфию. Он действовал по приказу Джермена, знавшего о том, что сильный французский флот адмирала д'Эстэнга покинул Тулон и плывет к американским берегам. Хотя и в Англии снаряжалась новая эскадра в американские воды, французы должны были прийти туда первыми и могли натворить бед, во всяком случае, закупорить эстуарий Делавэра. Английская армия в Филадельфии оказалась бы между двух огней. Клинтон, не мешкая, погрузил снаряжение армии на корабли, на борт которых поднялось также около трех тысяч лоялистов, опасавшихся мести патриотов. С десятитысячной армией он решил вернуться через Нью-Джерси в Нью-Йорк по суше. Конечно, англичане предпочли бы перебросить в Нью-Йорк всю армию морем, но на кораблях не хватало места для лошадей. Без помпы, пышных проводов и речей английские войска 18 июня 1778 года оставили Филадельфию. Как сказал житель города, видевший исход англичан: "Они не ушли, а просто исчезли".
* * *
Все эти недели в Вэлли-Фордж, в штабе Вашингтона, энергично обсуждали предстоявшую летнюю кампанию. Лазутчики доносили о несомненной подготовке англичан к эвакуации города. Что делать? Подспудно американские стратеги, размышлявшие в тени французского союза, приходили к выводу - лучше ничего не делать, а ожидать союзной армады с легионом воинов, которые вышвырнут англичан из Америки во имя свободы и Людовика XVI. Господствовавшее настроение позволило Вашингтону пока заняться делом - свести счеты с интриганами.
К весне он записал в актив много - в Вэлли-Фордж стояла почти двенадцатитысячная, неплохо снаряженная, вооруженная и обученная армия. Подвиг полководца? Несомненно. Наученный горькой зимой, Вашингтон махнул рукой на конгресс и проявил большую личную распорядительность. Он обратился с личными письмами к губернаторам штатов, точно изложив нужды войска. Затем последовало циркулярное письмо главнокомандующего губернаторам и ассамблеям, которые вняли его призыву. То, что армия была теперь одета, обута, накормлена, а главное, пополнена, было результатом работы Вашингтона. Он имел все основания гордиться - в войсках даже была создана военная полиция. Конгресс к этим достижениям имел весьма отдаленное отношение, хотя все делалось, конечно, от его имени.
Военное управление, следственно, осталось в стороне, и, когда в Вэлли-Фордж явились Гейтс и Миффлин обсуждать грядущие операции, Вашингтон был в бешенстве. Лишь по совету штаба он сохранил в отношении их "приличие". 8 мая собрался военный совет. Вашингтон доложил, что вооруженные силы республики насчитывают 11,8 тысячи в Вэлли-Фордж, 1400 - вблизи Филадельфии и 1800 - на Гудзоне, то есть немногим уступают 15-тысячной армии, которую имеют англичане в Америке, 10 тысяч в Филадельфии и 5 тысяч в Нью-Йорке. Начинать наступление или ничего не делать? Вашингтон предложил ждать, то есть ничего не делать. Военный совет единодушно согласился с ним. Гейтс и Миффлин не осмелились вымолвить слова.
Оба потеряли всякий вес в глазах конгресса. Гейтса отправили командовать на Гудзон. Из Йорка поступило довольно робкое предложение взять Миффлина генерал-майором в действующую армию. В ответ в ледяном письме Вашингтон указал: Миффлин ушел в отставку, "когда над нами сгустилась темная туча... Но если он может примирить такое поведение с его убеждениями как офицера и собственной честью, а конгресс не имеет возражений против его ухода из Военного управления, я лично, не возражая против всего этого, тем не менее считаю, что назначение джентльмена, бросающегося из стороны в сторону в зависимости от того, сияет ли солнце или скрывается за тучами, не совсем то, не совсем справедливо в отношении офицеров, преодолевших самое трудное". Миффлин не получил назначение, напротив, конгресс распорядился открыть следствие по поводу его прошлой деятельности на посту начальника тыла армии. Он плакался, что за этим стоит Вашингтон, последний любезно отпустил его из лагеря для дачи объяснений надлежащей комиссии.

Объяснение с генералом Ли
Но континентальная армия отчаянно нуждалась в генералах. Какие бы сомнения Вашингтон ни испытывал в верности многих из них, имя плененного Ли постоянно было на его устах. С большим трудом он добился обмена Ли. В тот день, когда стало известно, что англичане, наконец, отпускают генерала, в Вэлли-Фордж было великое торжество. На парад вывели всю армию, составили сводный оркестр. Вашингтон со штабом выехал на шесть километров, чтобы встретить мученика. Очевидец описывал дальнейшее: "Генерал Вашингтон слез с коня и принял генерала Ли как брата. Он провел его через ряды офицеров и солдат, воздававших Ли высшие воинские почести, и привел в штаб, где в его честь был дан пышный обед, на котором присутствовала миссис Вашингтон. Музыка играла все время. Ли отвели комнату рядом с гостиной миссис Вашингтон.
На следующий день он встал очень поздно, и из-за него задержали завтрак. Он вышел таким грязным, как будто провел на улице всю ночь. Вскоре я выяснил, что он привез с собой отвратительную грязную потаскуху (жену английского сержанта) из Филадельфии, которую впустил в свою комнату тайком через заднюю дверь и спал с ней всю ночь. Генерал Вашингтон вверил ему командование правым крылом армии, но перед тем, как приступить к своим обязанностям, Ли испросил разрешение отправиться в Йорк посетить конгресс. Это ему с готовностью разрешили. Перед отъездом я встретился с ним. Он заявил, что нашел армию в худшем состоянии, чем ожидал, а генерал Вашингтон не способен командовать даже взводом".
В Йорке в беседах с членами конгресса Ли высмеивал все сделанное Вашингтоном и Штебеном. По его мнению, армии не получилось; сколько ни учи американца, внушал он, "в строю он все равно смешон, над ним будет смеяться враг, и армия потерпит поражение в любом столкновении, требующем маневра". Ли предложил перейти к войне типа партизанских действий, опираясь на местные формирования. Генерал, отставший от жизни, твердил зады, проповедовал принципы, уже отвергнутые при строительстве континентальной армии. Такого рода прожекты никогда не вызывали симпатий у Вашингтона, ибо, не говоря уже об их сомнительной ценности с военной точки зрения, они погрузили бы страну в пучину гражданской войны.
Ненависть между лоялистами и патриотами особенно остро проявлялась на местах. Стоило превратить ополчение в основное орудие борьбы, как самые радикальные среди них стали бы обрушиваться на консервативно настроенных, те, в свою очередь, объединились бы, и вместо борьбы с внешним врагом началось бы то, что радикалы именовали бы настоящей революцией, а руководители войны за независимость квалифицировали бы как резню.
Профессиональный кондотьер, каким был Ли, разглядел, что континентальная армия все же дырявый щит для прикрытия от регулярных войск врага, но не понимал ее роли как надежного прикрытия от возможных социальных потрясений. Впрочем, ему, вояке и задире, была чужда социальная алгебра, он не выходил за рамки военной арифметики. А вообще в войне за независимость пламя партизанской борьбы ярко разгоралась только там, где не было соединений континентальной армии или они были слабы.
Вашингтону не хватало времени разобраться с Ли. Уход англичан 18 июня из Филадельфии поставил на повестку дня активные боевые действия - войска Клинтона не сидели больше за укреплениями, а, вытянувшиеся длинной колонной по дороге к Нью-Йорку, были уязвимы. Отдав приказ Арнольду занять Филадельфию небольшим отрядом и поддерживать там порядок до восстановления гражданского управления, Вашингтон 24 июня собрал военный совет. Указав, что за неделю войска Клинтона прошли немногим больше 60 километров и, следовательно, испытывают серьезные трудности (частично за счет разрушения мостов, порчи дороги и пр.), он спрашивал мнение генералов, что делать - навалиться всеми силами на Клинтона, ударить по арьергарду или вообще ничего не делать? Ли, считавший себя вторым в армии после Вашингтона, в обычной резкой манере вопросил - "не идиотизм ли, когда союз с Францией гарантирует конечную победу", рисковать? Он очень высоко отозвался о боевых качествах англичан и предрек одни неприятности от нового боя с ними. Штебен, борясь с английским языком, требовал наступать, молодежь - Лафайет и Гамильтон - рвалась в бой. Обсуждение закончилось компромиссом - усилить 2,5-тысячный отряд, уже действовавший на флангах Клинтона, еще 1500 человек и при удобном случае нанести удар по тылу вражеской колонны. Главные силы континентальной армии будут поблизости, чтобы при нужде оказать помощь.
Положение Клинтона было довольно серьезным - его 10 тысяч человек очень растянулись, только от головы до конца обоза было 18 километров. На флангах армию беспокоили отряды американцев, а по пятам шла континентальная армия. Вашингтон мог выставить против Клинтона в общей сложности до 14 тысяч солдат. Соблазн напасть был велик, и наконец Вашингтон отрядил примерно половину армии против арьергарда врага. Командовать отрядом было поручено Лафайету.
Стоило Ли прослышать об этом, как он заявил, что столь ответственное дело лучше поручить ему, ветерану. Против этого было трудно возразить. Ли получил командование и приказ - поутру 27 июня напасть на англичан, когда они тронутся со своего бивака около Монмус-Корт-Хауз.
В тот день Вашингтон быстро повел оставшиеся у пего 7800 человек к полю предстоящего боя, где, как ожидалось, шеститысячный отряд Ли уже схватился с врагом. Его план не был совсем ясен, из отданных приказов не следовало, что он собирался дать генеральное сражение.
Стояла ужасающая жара, солдаты выбивались из сил на песчаной дороге, некоторые умирали от солнечного удара. Вашингтон торопил армию, время от времени бригады переходили на бег. Наконец послышались долгожданные звуки боя, но орудийные выстрелы не слились в могучую симфонию, напротив, они быстро угасли, как костер без топлива.
Восседая, как обычно, на прекрасном белом коне, Вашингтон был во главе колонны. До боли знакомая картина - стали попадаться бегущие люди. Генерал остановил одного, несомненно солдата, - тот сбивчиво рассказал, что Ли отступает. Приказав взять солдата под стражу и пригрозив "крепко выдрать", если он вымолвит хоть слово войскам, Вашингтон устремился вперед. Наконец среди шедшего в беспорядке отряда показалась знакомая фигура генерала Ли на лошади. Рядом своры псов.
Бледный от злости Вашингтон потребовал объяснений. Что произошло между ними точно, конечно, неизвестно, как существуют и большие противоречия в оценке уместности отступления Ли. Вероятно, все же он поступил осмотрительно - когда завязался бой, Клинтон внезапно повернул всю армию, и американцы оказались перед лицом превосходящих сил, побежала и бригада Лафайета. Уже по той причине Лафайет даже спустя тридцать семь лет в мемуарах с удовлетворением отмечал, что Вашингтон обозвал Ли "подлым трусом". Наверное, сказано было многое. Генерал Скотт, прославившийся сквернословием, вспоминал: "Да, сэр, он ругался в тот день так, что листья мелко задрожали на деревьях! Никогда я не наслаждался такой бранью ни раньше, ни потом. Сэр, в тот памятный день он ругался, как ангел, слетевший с неба!" Правда, Скотт не был на месте действия... Одно несомненно - Вашингтон был крайне недоволен.
Препираться было некогда: выяснилось, что Клинтон, не ограничившись тем, что опрокинул отряд Ли, идет дальше. К счастью для американцев или, как выразился Вашингтон, "благодаря Провидению, никогда не оставлявшему нас в тяжкий час", он встретился с Ли в таком месте, которое представляло прекрасную позицию, на склоне холма, понижавшегося в сторону англичан. Фланги прикрывал лес, а на пути войск Клинтона, стоит им развернуться и сойти с дороги, - болото. Результаты трудов Штебена сказались - американские бригады в считанные минуты стали так, как приказал Вашингтон, и заняли оборонительный порядок.
Когда появилась английская кавалерия, ее отогнали убийственным залпом почти в упор. Недаром Штебен настаивал на дисциплине огня! Легкая пехота и гренадеры Клинтона атаковали с обычной напористостью, выискивая слабые места в обороне. На этот раз они не добились успеха - американские бригады довольно умело маневрировали, прикрывая возникшие опасные бреши. К вечеру Клинтон прекратил бой. Американцы удержали свои позиции. Вашингтон и Лафайет провели ночь на земле под одним одеялом. Они обсуждали "поведение генерала Ли" и стратегию предстоявшего сражения.
Едва забрезжил рассвет, как Вашингтон схватился за подзорную трубу и обшарил взором поле боя. Никого! Выяснилось, что в полночь Клинтон незаметно ушел. Преследовать не имело смысла - английские войска сумели оторваться от американцев. Стороны потеряли в бою примерно поровну - по 350 человек убитыми, ранеными и пленными, хотя Вашингтон, как водилось, преувеличил потери врага, доложив конгрессу, что Монмус-Корт-Хауз обошелся Клинтону по крайней мере в 1500 человек. Конгресс соответственно распорядился выбить еще одну победную медаль. С таким же основанием на нее мог претендовать и Клинтон.
Коль скоро стратегия больше не отнимала времени у Вашингтона, он смог составить детальное обвинение против Ли, имевшего несчастье в силу болезненной склочности вернуться к вопросу о том, кто же повинен в туманном исходе сражения. Он потребовал у Вашингтона извинений и выразил готовность предстать перед военно-полевым судом. Вашингтон велел арестовать Ли, а вскоре состоялся и суд, нашедший Ли виновным в беспорядочном отступлении и неповиновении. Ли был на год отстранен от службы. Он пожаловался конгрессу, в котором с большими колебаниями поддержали приговор.
Теперь вступили адъютанты Вашингтона, удрученные нападками Ли на обожаемого главнокомандующего. Один из них, Лоренс, вызвал Ли на дуэль, на которой секундантом выступил другой - Гамильтон. Ли получил легкое ранение, но куда больше его мучила позорная отставка. Он публично продолжал злоязычничать о Вашингтоне, который сохранял молчание, сколько ни изощрялся обиженный. В июле 1780 года конгресс счел очередное письмо Ли в свой адрес клеветническим, и генерала уволили. С политической арены, а вскоре из жизни ушел самый неистовый критик Вашингтона в среде профессиональных военных. В 1782 году Ли умер в Филадельфии.
Недоброжелатели Вашингтона прикусили языки, содержание мрачных писем Ли незадолго до его смерти широко разнеслось. Ли, например, писал Гейтсу: "Я убежден как в своем существовании, что рассчитанная цель этого темного интригана, преисполненного честолюбия мстительного хама В. - стереть меня с лица земли, убив прямо или косвенно, а также навсегда подорвать вашу славу и благополучие".
Приписывать такие замыслы Вашингтону слишком. По поводу обвинений Ли он позднее высказался, благостно заметив: "Если бы я когда-нибудь претендовал на роль военного гения и опытного военачальника и под этим фальшивым знаменем выпрашивал командование, которым мне оказали честь, пли если бы после моего назначения я опрометчиво действовал, руководствуясь только собственным суждением, а неудачи были бы следствием моего упрямства и своеволия, но не обстоятельств, тогда я был бы должным объектом для поношения не только его, но и других и заслужил бы общественное недовольство. Но ведь все знают, что командование было мне навязано, и... одно перечисление фактов опровергает все его утверждения, хотя они и делаются с наглостью, на которую способны лишь немногие, бесчестящей само имя человека".
Дело было не только в судьбе сумасброда Ли. После Вэлли-Фордж Вашингтон стал почти неуязвим. Д. Адамс продолжал ворчать, но только в письмах жене: "Отец страны, Основатель Американской Республики, Основатель Американской Империи и т. д. и т. д. и т. д. Эти эпитеты неприменимы к одному! Их нельзя применить и к двадцати, к сотне и тысяче!" Американцы все же отдавали их одному - Джорджу Вашингтону.
По американским критериям он, дав описанные сражения, зарекомендовал себя полководцем. Большего в чисто военной области он лично не сделал, ибо с лета 1778 года и до конца войны за независимость внимание Вашингтона все в возрастающей степени поглощали проблемы политической стратегии.
* * *
Американский публицист Ф. Беллами в книге "Личная жизнь Джорджа Вашингтона", выпущенной в 1951 году, писал: "У американцев ныне есть основательные причины, когда они никак не могут вспомнить, что происходило с Вашингтоном и континентальной армией в промежуток между Монмус-Корт-Хауз в 1778 году и Йорктауном в 1781 году. Дело же в том, что после Монмус-Корт-Хауз наши предки, положившись на союз с Францией, беспредельно захваливали Вашингтона и оказывали ему все меньше практической помощи... Печально, но факт - американцы тогда вели себя так, что желание многих историков забыть об этом периоде понятно".
Война в представлении американцев приобрела иные очертания, они благословляли свою искусную дипломатию, сумевшую будто бы поставить на службу США королевскую Францию. Расчетливые руководители революции надеялись вести отныне боевые действия главным образом чужими руками, не без оснований полагая, что решающие схватки с Англией предстоят далеко за пределами Северной Америки и, следовательно, обойдут их страну стороной. Они не были совсем не правы. В Лондоне с появлением нового врага Франции были озабочены безопасностью самих Британских островов. Адмиралтейство смертельно боялось появления в отечественных водах соединенного франко-испанского флота, а посему озаботилось держать крупный флот в метрополии. В то же время для охраны британских островных владений в Вест-Индии перебрасывались войска, которые были взяты у Клинтона. Контуры этой стратегии не могли остаться тайной для американцев, и они, естественно, ожидали ослабления натиска врага.
В конгрессе правильно рассчитали, что Англия не сможет направить против США новые части регулярной армии, и отсюда сделали совершенно неправильный вывод, что можно пропустить мимо ушей настояния Вашингтона укреплять континентальную армию. Не придали также должного внимания угрозе Клинтона, о которой по долгу службы Вашингтон доложил конгрессу: отчаявшись получить подкрепление, английский командующий укрепился в Нью-Йорке и заявил, что "изменит характер войны, превратив ее в борьбу на истребление и уничтожение". Он разослал агентов по индейским племенам уговаривать краснокожих обрушиться на западную границу США, спланировал зимнюю кампанию в южных штатах и опустошительные набеги с кораблей королевского флота не только на побережье, но и по Гудзону.
Уже 4 июли 1778 года, своеобразно отмечая день американской независимости, английский полковник Батлер во главе индейцев вторгся в долину Вайоминг в Пенсильвании. Он устроил кровавую баню, сотни мирных жителей погибли. На глазах обезумевших семей мужчин бросали на кучи раскаленных углей и, придерживая вилами, заживо сжигали, отрезали головы, снимали скальпы. Очень скоро вся приграничная полоса стала ареной ужасающего кровопролития.
Континентальная армия не могла ничего поделать. Вашингтон привел ее вслед за Клинтоном к Нью-Йорку. Туда же подошла эскадра д'Эстэнга, прибывшая к американским берегам 8 июля. Логично было бы овладеть Нью-Йорком, сил, казалось, было достаточно - континентальная армия плюс четыре тысячи французских солдат, привезенных д'Эстэнгом. Но адмирал нашел, что его глубокосидящие корабли не войдут в гавань Нью-Йорка. Операция не состоялась. Тогда Вашингтон попытался очистить остров Ньюпорт, разгромив занимавший его сильный гарнизон. Соединенные американо-французские силы высадились на остров, но сражения не произошло. Д'Эстэнг, получив сообщение о подходе английского флота, торопливо погрузил своих солдат и отплыл. Тут разразился сильный шторм, потрепавший французскую эскадру. Д'Эстэнг заявил, что необходимо отремонтировать корабли, и укрылся в гавани Бостона. Затем он отплыл, не поставив в известность союзников о месте назначения. Вашингтон предположил - в Вест-Индию, ибо вслед за французским флотом из Нью-Йорка ушла английская эскадра, взявшая на борт пять тысяч солдат. Между тем шел уже ноябрь, и кампания континентальной армии 1778 года закончилась. Вашингтон расположился на зимние квартиры, заняв зигзагообразную линию протяженностью сто с небольшим километров к западу от района Нью-Йорка.
Первый опыт сотрудничества с французами оставил горький осадок: После неудачи на Ньюпорте около пяти тысяч ополченцев, обозлившись на союзников, разошлись по домам. Происходили стычки между американскими и французскими солдатами. Стороны обменивались острыми упреками. Вашингтон как мог сохранял дипломатическую выдержку, но в частном письме воскликнул: "От всего сердца хотел бы, чтобы у нас не было ни одного иностранного офицера, за исключением маркиза Лафайета!" Но даже пылкий маркиз терял терпение, на оскорбления своих соотечественников он отвечал колкостями, а Вашингтону пожаловался: "Я чувствую себя больше на войне в американских линиях, чем при приближении к английским линиям у Ньюпорта".
Трения трениями, а война продолжалась, и требовалось вынести безотлагательное решение, что предпринять на границе, где индейские племена, подстрекаемые англичанами, сделали жизнь совершенно нетерпимой. Радикальным решением было бы массированное вторжение в Канаду, овладение провинцией и ликвидация осиных гнезд, откуда совершались набеги. Лафайет был всецело "за" и составил подробный план - двенадцатитысячная армия захватит Детройт, Ниагару, Монреаль и т. д., а французский флот, поднявшись по реке Св. Лаврентия, поддержит ее. Лафайет считал, что, если вторжение возглавят французские офицеры, это поднимет местное население против англичан, и успех предприятия обеспечен. Себя он уже видел командующим победоносной армией.
Не согласовав план с Вашингтоном, он поспешил в Филадельфию, где очаровал конгресс блистательными перспективами нанесения смертельного удара врагу в Северной Америке. Политики пришли в восторг и высказались за операцию. Когда Лафайет явился к Вашингтону, главнокомандующий выслушал его внешне благожелательно. Но внутренне он пришел в ужас, особенно узнав, что конгресс считает необходимым обратиться в Версаль за помощью для овладения Канадой. В официальном письме конгрессу Вашингтон высказался против операции по чисто военным причинам. В конфиденциальном письме президенту конгресса Лоренсу он прибег к совершенно иной аргументации: "По мере того как маркиз развивал свой прожект, мне представилось, что идея была только его, но вовсе не невероятно, что она зародилась у французского кабинета и искусно замаскирована, чтобы ее легче приняли. Думаю, что на лицах некоторых в этой связи я читаю больше, чем незаинтересованное рвение. Надеюсь, что я ошибаюсь".
Идея действительно принадлежала только Лафайету, но подозрительный Вашингтон не поверил. Он указывал, что было бы безумием разрешить французам вновь укрепиться в Канаде, "связанной с ними узами крови, обычаев, религии и прежнего правления". В результате по достижении независимости США окажутся лицом к лицу с французской империей от Нью-Орлеана до Канады. И пусть конгресс не думает, что Франция остережется вновь толкнуть США в объятия Англии, ибо к тому времени Франция с союзной Испанией будут господствовать на море. "А на нашу долю останутся только недовольство, упреки и подчинение".
В заключение Вашингтон предостерег: "Людям очень свойственны крайности. Ненависть к Англии может подтолкнуть иных к чрезмерному доверию к Франции, особенно когда принимаются во внимание чувства благодарности. Такие люди не захотят поверить, что Франция способна действовать эгоистически... Однако история человечества дает всеобщий принцип - не следует доверять ни одной нации дальше ее собственных интересов. Ни один осмотрительный государственный деятель пли политик не осмелится отклониться от него". Ситуация, понимал Вашингтон, конечно, щекотливая - Лоренс не мог придать огласке его конфиденциальное письмо, в то время как официальное послание конгрессу могло показаться неубедительным, особенно учитывая эмоции - кровь ежедневно погибавших под томагавками людей взывала об отмщении. Континентальную армию уже упрекали в бездеятельности.
Главнокомандующий нашел выход - он убедил горячо любимого Лафайета отправиться па родину. Искренний маркиз едва ли мог заподозрить коварство в предложениях Вашингтона, ибо они были продиктованы как заботой о государственном благе, так и вниманием к молодому человеку. "Если у вас есть мысль, дорогой маркиз, - отечески писал Вашингтон, - нанести визит (французскому) двору, Вашей даме и Вашим друзьям этой зимой, но Вы колеблетесь из-за экспедиции в Канаду, то дружба побуждает меня сказать - нет необходимости откладывать поездку". Вашингтон лукаво заверил честолюбивого Лафайета, что он принесет больше пользы в Европе, склоняя Испанию к вступлению в войну, чем занимаясь куда менее важными делами в США. Польщенный Лафайет отправился во Францию, осознавая ответственность своей миссии, а великая экспедиция в Канаду заглохла.
Генералу пришлось выехать в Филадельфию объясняться с конгрессом, почему он отказывается идти войной на Канаду рука об руку с войсками христианнейшего короля. В городе он провел около полутора месяцев и вдоволь налюбовался американским тылом. По улицам грохотали тяжелые кареты с ливрейными лакеями в напудренных париках на запятках, ежедневно давались балы, где вино лилось рекой, а столы ломились от яств. Вашингтон протирал глаза - он, видевший лишения на фронте, не мог поверить, что за спинами сражающихся купаются в роскоши. Генерала захваливали, таскали с одного бала на другой, по театрам, концертам, давали в его честь званые обеды. Кругом беспечная болтовня, политики по уши заняты светской жизнью, самые неотложные дела стоят. Высокий худой Вашингтон с изможденным лицом был явно неуместен в гостиных. Уже облик генерала напоминал - идет война, что, естественно, побуждало упитанных джентльменов отводить глаза и не вглядываться ему в лицо.
Он писал из Филадельфии: "Ничто, что я видел со дня приезда сюда, не изменило моего мнения о людях, напротив, у меня основательнейшие причины быть убежденным, что наши дела в самом тягостном и катастрофическом положении, когда-либо складывавшемся с начала войны... Если бы мне поручили нарисовать картину нравов и людей, то из того, что видел, слышал и частично знаю, я бы, одним словом, определил - безделие, распутство и роскошь овладели большинством. Спекуляция, казнокрадство, ненасытная страсть к наживе подавили все другие соображения и охватили людей всех состояний. Партийные распри и личные склоки - основное занятие, в то время как жизненно важные проблемы страны - громадный и все возрастающий долг, подорванные финансы, отсутствие кредита (а это означает отсутствие всего) - считаются второстепенными и решение их откладывается со дня на день, с недели на неделю, как будто наши дела обстоят блестяще".
В конгрессе и на заседаниях его комитетов Вашингтон пытался показать реальную обстановку. Он объяснял, что служба в армии невыгодна, когда любой способный человек, оставивший армию, может рассчитывать на быстрое обогащение в частном бизнесе. Нужно немедленно поднять жалованье офицерам, иначе они разойдутся. Слушали очень уважительно, понимающе кивали головами, но практически палец о палец не ударили, а иные циники за спиной Вашингтона глубокомысленно рассуждали - генерал-то не страдает, он, принимая на себя многотрудные обязанности, договорился с конгрессом о возмещении личных расходов по окончании войны, а не о ежемесячном жалованье. Мудрейший человек, вздыхали спекулянты, предвидел инфляцию!
Все это было вздором, инфляция, когда доллар обесценивался на пять процентов ежедневно, конечно, затрагивала Вашингтона, хотя менее болезненно - вирджинский плантатор владел недвижимостью, а не капиталом, способным быстро обесцениться. Деловая переписка Вашингтона с управляющим Маунт-Верноном в это время изобличает громадную тревогу плантатора по поводу состояния его личных дел - арендаторы платили долларами, которые практически ничего не стоили, должники спешили погасить ими свои долги, а профессиональные шутники забавлялись - облепив собак бумажными долларами, водили их напоказ по столице.
В середине февраля 1779 года Вашингтон наконец вырвался из опостылевшей Филадельфии, выплыл из водоворота пышных балов, которые, по словам близкого, генерала Грина, доставляли ему "больше боли, чем радости". Он проявил твердость характера - тщательно скрывал гнев под личиной развлекающегося джентльмена. Он запомнился филадельфийским дамам как неутомимый танцор. Они только расходились во мнениях по поводу выражения лица располневшей Марты, которая больше не танцевала, но не отрывала глаз от супруга, выделывавшего замысловатые па на ослепительно натертом паркете.
Вашингтон увозил для армии из Филадельфии немногое - обещание конгресса выплачивать пенсии офицерам семь лет по окончании войны, рекомендации штатам пожизненно обеспечить офицеров по выходе в отставку половиной содержания. Кто будет финансировать это, оставалось неясным, но, по крайней мере, ссылаясь на посулы конгресса, можно было задержать людей на службе.
Вернувшись в штаб, Вашингтон засыпал друзей письмами. Теперь он не сдерживался. Каждая строчка была полна беспокойства за судьбу страны и негодования по поводу происходившего в тылу в час мучительных испытаний. Нескольких извлечений из писем достаточно, чтобы понять душевное состояние генерала па исходе четвертого года войны за независимость.
"Спекуляция, казнокрадство, нажива со всеми их последствиями дают слишком много печальных доказательств упадка общественной добродетели и слишком явных примеров, что только это интересует многих". В другом письме Вашингтон настаивал: "Ничто другое, убежден, кроме обесценения нашей валюты, происходящей главным образом по упомянутым причинам, чему помогают склоки и партийные распри, не питало в такой мере надежды врага и дало возможность Британии по сей день держать свои армии в Америке. Враги, не колеблясь, говорят об этом и добавляют, что мы сами победим себя".
Временами он впадал в риторику, странно звучавшую в устах человека, которому была вверена армия революции: "Разве не может родина нас всех - Америка обладать достаточной добродетелью, чтобы разочаровать наших врагов? Должна ли жалкая, ничтожная погоня индивидуумов за презренным металлом соперничать с основными правами и свободами как нынешнего поколения, так и с интересами еще не рожденных миллионов? Погубят ли считанные хитрецы, трудящиеся ради собственного обогащения и удовлетворения алчности, прекрасное здание, которое мы сооружаем, тратя на это столько времени, крови и средств? Падем ли мы, в конце концов, жертвами собственной ужасающей корысти? Боже, не допусти этого! Пусть каждый штат и все штаты в совокупности примут законы, пресекающие рост этого чудовищного зла и восстанавливающие изначальную чистоту дела войны!"
Иногда письма дышали поистине праведным гневом, а предлагавшиеся меры свидетельствовали о большой твердости характера: "Убийцы нашего дела должны быть преданы примерному наказанию... Молюсь Всевышнему, чтобы каждый штат вздернул самого зловредного (из числа спекулянтов. - Н. Я.) на виселицу, которая, по крайней мере, в пять раз выше, чем библейская. Для человека, составляющего состояние на гибели страны, по моему мнению, нет достаточного наказания".
Страшные слова остались словами. Вашингтон не мог переделать высшие классы Америки по своему образу и подобию. Он должен был работать с имевшимся человеческим материалом. Будучи реалистом, Вашингтон сообразовывал свои планы с имевшимися возможностями, подрезал крылья собственной мечте.
* * *
Конечно, Вашингтон всей душой и сердцем рвался положить конец войне, увенчав победой славное дело. Но он лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что республика не в состоянии восторжествовать собственными силами. Помимо естественного желания достичь успеха малой кровью, над помыслами его властно довлела блистательная мысль - добыть победу руками других. Эти соображения диктовали особую осторожность, а главное, ненавистную необходимость ждать.
В этом отношении не было решительно никакой разницы между Вашингтоном и презираемыми им спекулянтами, хотя мотивы сознательной затяжки войны у них были глубоко различными. Вашингтон ожидал перелома в борьбе против Англии на других театрах, то есть успехов французского оружия в Европе и Вест-Индии. Что до наживавшихся на военной конъюнктуре, то Вашингтон укрепился в подозрении: "Ныне спекулянты, ловкачи всех видов стоят за продолжение войны ради своего обогащения... Мы еще не испили до конца чашу позора".
Затяжка войны была неизбежна, и Вашингтон надеялся, пока французы дерутся с англичанами, упорядочить дела в собственной стране. В 1779 году он не планировал крупных операций и, следственно, не требовал от конгресса средств на расширение армии, полагая, что тем самым удастся добиться экономии. США выпутаются из финансовых затруднений, а там видно будет - в зависимости от хода войны между Англией и Францией.
На главном фронте - перед Нью-Йорком - царило затишье, если не считать отдельных вылазок англичан и действий континентальной армии местного значения. Пока главные армии смотрели друг на друга из-за укреплений, американцы занялись привычным, ныне совершенно неотложным делом. Вашингтон отправил генерала Салливана с пятью тысячами человек "полностью разрушить и стереть с лица земли" деревни ирокезов, бесчинствовавших на границе. Хотя не так стремительно, как хотелось бы Вашингтону, Салливан летом 1779 года огнем и мечом прошел по землям ирокезов, уничтожив свыше 40 поселений, а главное, начисто сжег их посевы, вырубил сады и уничтожил запасы продовольствия. Вашингтон публично признал "полный успех" экспедиции Салливана, подготовившей голодную смерть сотням индейских семей грядущей лютой зимой. Но американцы не дошли до Ниагары, откуда англичане руководили набегами индейцев.
Тем временем на юге страны дела американцев шли плачевно. Еще в конце 1778 года Клинтон направил в Джорджию 3,5-тысячный отряд, захвативший Саванну - порт, дававший доступ в южные штаты и связывавший их с Вест-Индией. Разбив местное ополчение, англичане вернули короне Джорджию и начали медленно овладевать Южной Каролиной. Недавние патриоты, видя превосходство врага, торопились присягнуть на верность королю.
Вашингтон считал, и совершенно справедливо, что конгресс и Военное управление изъяли из его компетенции операции на юге. Они касались континентальной армии лишь в той мере, в какой было необходимо отправить туда подкрепление. На юг ушло около двухсот всадников под командованием польского добровольца Казимира Пулаского и несколько сот солдат континентальной армии. Осенью 1778 года Вашингтон с удивлением узнал, что эскадра д'Эстэнга из Вест-Индии пошла не к Нью-Йорку, как ожидалось, а появилась у берегов Джорджии. Французский адмирал затеял осаду Саванны и, хотя имел более чем двойное превосходство в силах - 5 тысяч французов и американцев против 2400 англичан, был с позором отбит. Пулаский, возглавивший безумно смелую кавалерийскую атаку, пал на поле боя. Поражение на юге подняло дух лоялистов по всей стране, посеяло глубокое уныние в Филадельфии, но не лишило присутствия духа Вашингтона.
Генерал научился стойко переносить неудачи, что значило одно, другое поражение, да к тому же на юге, когда враги Англии умножались. 16 июня 1779 года в войну вступила Испания, хотя и не признавшая независимости Американских штатов. Оно попятно - Испания сама имела обширные колонии в западном полушарии, и побудительным мотивом для нее взяться за оружие, было желание захватить Гибралтар и Минорку. Вашингтон упивался известиями, приходившими в те времена с большим запозданием, о схватках далеко от Америки.
1779 год дал пищу для любителей авантюрного чтения: прославился американский флотоводец - капитан Джон Поль Джонс. Он выполнил долгожданное - перенес войну в моря, омывающие Британские острова. Базируясь на Брест, корабли Джонса нападали на английские порты, его бравые молодцы, высадившись на берег, похитили столовое серебро у графа Селкирка и вообще причинили врагу много хлопот. Но честолюбивые планы - конгресс одобрил экспедицию по поджогу Лондона и уничтожению королевского дворца, - конечно, были слишком дерзки и не поддавались исполнению. Куда успешнее действовали американские каперы, воевавшие на море ради личной наживы. Добыча каперов заложила основу ряда крупных состояний в США. Б. Франклин признал, что каперство больше обогатило американцев, чем торговля. Что до морской войны по всем правилам, то с появлением французского и испанского флотов конгресс счел усиление американского флота излишним. Если в 1777 году США имели 34 корабля, то в 1781-м - только 7. Зачем собственный флот, когда намечалось вторжение французов и испанцев на Британские острова?
За годы войны конгресс выдал 1700 каперских свидетельств и не менее 2000 свидетельств власти штатов. Каперы имели водоизмещение от 100 до 500 тонн, иные имели по 20 орудий и экипажи свыше 100 человек. В общей сложности они взяли 600 призов стоимостью в18 миллионов долларов. Каперство, граничившее с пиратством, заняло в разное время до 60 тысяч человек. Неслыханный патриотический подъем, буквально исход американцев в море, когда малолюдство было бичом континентальной армии! Если для Вашингтона было проблемой набрать тысячу-другую солдат, то в портах толпы осаждали капитанов каперов.
Не только нежелание конгресса тратиться на государственный флот, но и массовое дезертирство военных моряков на каперы не давали возможности США обзавестись должной морской мощью, способной оказать влияние на ход войны. Вашингтон находил это положение ненормальным и в апреле 1779 года, видя, что военные корабли простаивают в портах без экипажей, предложил сдать их в аренду энергичным капитанам с условием, что "они будут иметь исключительные права на все захваченное, но действовать поодиночке или вместе по указанию конгресса". Он предвидел великие преимущества от осуществления этого плана: "С нашими военно-морскими силами мы можем захватить или уничтожить все английские корабли и транспорты у Джорджии, а тогда их войска на берегу постигнет катастрофа. При нынешнем положении наши корабли не только дороги и абсолютно бесполезны в портах, но иной раз требуют отвлечения сухопутных войск для охраны".
План Вашингтона - вписать операции на море в общую стратегию войны - был построен на песке - каперы рвались в море не ради великих принципов, а в интересах наживы. Они внесли серьезное расстройство в торговое мореходство, не гнушаясь, иной раз ограбить судно дружественной страны, но никогда не причинили заметного ущерба английским воинским перевозкам в Америку. Транспорты обычно шли в конвоях с сильным охранением.
Вероятно, Вашингтон убедился, что дракона спекуляции и наживы ему не одолеть, и, коль скоро военные действия в районах дислокации континентальной армии затихли, он вернулся к образу жизни богатого вирджинского плантатора. Впервые с начала войны в 1779 году Вашингтон решил отдохнуть, не в филадельфийских масштабах, конечно, а насколько позволяла обстановка военного лагеря. Он стал приглашать на званые обеды дам, было отмечено, что генерал способен танцевать три часа подряд. В корреспонденции Вашингтона появились шутливые письма.
Подал весточку о себе из Франции сердечный друг Лафайет, галантно сообщив, что его юная супруга "без ума" от Вашингтона. Любезнейший генерал ответил: "Скажи ей (если ты, конечно, не перепутал и не предложил вместо нее свою любовь), что мое сердце чувствительно к нежной страсти и я уже настолько хорошо думаю о ней, что пусть она остережется и не подносит любовный факел к нему, ибо ты раздуваешь пламя. Слышу, как ты говоришь - "не боюсь. Моя жена молода, ты стареешь, и вас разделяет Атлантика". Все это верно, душевный друг, но помни, что никакие расстояния не разлучат надолго пламенных влюбленных, и чудеса прежних времен могут повториться в наши. Увы! Ты тут же заявишь, что среди чудес, описанных в священном писании, нет одного - случая, когда молодая женщина по истинной склонности предпочла бы старика. Против меня так много всего, что опасаюсь, я не смогу оспаривать приз у тебя, однако при твоем уже известном поощрении я включаю себя в список претендентов на завидное сокровище".
Когда же Лафайет, ухватившись за светские любезности, попытался обратить их на пользу родины и пригласил Вашингтона по окончании войны посетить Францию, где он собственными глазами сможет лицезреть ослепительную маркизу, "старый лис" ответил отказом, облеченным, однако, в изящную форму. Вашингтон сокрушался, что стар, чтобы выучить французский, а "говорить через переводчика, особенно с дамами, столь затруднительно, скучно и неуместно, что я просто не могу представить себя в такой роли". Пусть лучше Лафайет с супругой посетят США "в моем скромном сельском доме, домашний уют и сердечный прием заменят тонкости дорогостоящей светской жизни".
Во всех случаях жизни Вашингтон предпочитал быть хозяином, но не гостем.
Осенью 1779 года он оставил тон стареющего жуира. Это видно из письма Р. Моррису: "Я пью и ощущаю вкус вина только в праздничной обстановке", "Ныне я не способен к светским развлечениям". Зима в Вэлли-Фордж была воспроизведена в еще худшей форме в 1779/80 году. Стояли трескучие морозы, замерзла даже гавань Нью-Йорка. Вьюги замели метровым слоем снега солдатские хижины и палатки. Армия снова голодала. "Мы не видывали таких трудностей за всю войну, - признался Вашингтон, - солдаты едят все виды лошадиного корма, кроме разве сена".
Доллар совершенно обесценился, и пришлось силой реквизировать продовольствие. Беседы с фермерами с приставленным к их носу острием штыка вызывали взаимное озлобление. В обмен на продукты фуражиры вручали сертификаты, вносившие дальнейший хаос в денежное обращение. В Морристауне, где был штаб, Вашингтон метался, изыскивая источники снабжения, хотя, как и в прежние годы, страна отнюдь не бедствовала. Снова та же проблема - голодные солдаты и разжиревшие спекулянты. Конгресс признал свое банкротство, приняв решение, что, поскольку федеральная валюта обесценилась, каждый штат должен взять на себя снабжение полков, составленных из его уроженцев. Последовала невыносимая неразбериха.
Что делать с дополнительными полками, учрежденными Вашингтоном на континентальной основе, то есть - комплектовавшимися независимо от принадлежности солдат к тому или иному штату? Он особенно гордился ими. Несколько полков удалось приписать к штатам с филантропически настроенными ассамблеями. Но 16 полков, не нашедших благодетелей, пришлось распустить, масса офицеров, и притом лучших из лучших, осталась не у дел. В континентальной армии у Морристауна было немногим больше трех тысяч человек. "Не было другого этана войны, - сообщал Вашингтон конгрессу, - на котором недовольство приобрело бы столь общий и тревожный характер". До тех пор армию цементировал "общественный долг", подкреплявшийся "неустанными усилиями примирит ее с обстоятельствами. Но все это не сможет долго противостоят влиянию постоянно действующих факторов, усугубляющихся с каждым днем... Офицеры уходят в отставку... Солдаты не имеют этого выхода, поэтому они ропщут, вынашивают недовольство и теперь стали проявлять склонность входить в мятежный сговор".
Обращаться к конгрессу было равносильно произнесению речей в вату. В Филадельфии, конечно, пугались, но предоставляли Вашингтону самому справляться с армией. Кое-как перезимовали, и континентальная армия была счастлива, ибо враг не предпринял против нее никаких действий.
Клинтон понимал, что американцы не в состоянии наступать на Нью-Йорк. Зимой он с легким сердцем перебросил на юг лучшие части - до 8,5 тысячи человек, вверив оборону города гессенцам и лоялистам. Клинтон надеялся, опираясь на замиренную Джорджию, овладеть обеими Каролинами, Вирджинией и, если не удастся захватить всю страну, по крайней мере, закрепить за короной эти колонии. Американцы послали на юг подкрепления, но Вашингтон отклонил предложение ряда членов конгресса отправиться на юг биться с англичанами. Доводы, что английскими войсками на юге командует Клинтон и логично поставить там во главе американских Вашингтона, не произвели на него никакого впечатления.
Англичане осадили Чарлстон, гарнизон которого 12 мая 1780 года капитулировал. То было ужасающее поражение - вместе с командующим генералом Линкольном подняли руки свыше 5 тысяч американцев, из них 2500 солдат континентальной армии. Торжествующий Клинтон вернулся в Нью-Йорк, оставив на юге лорда Корнваллиса. Конгресс назначил на юг победителя при Саратоге генерала Гейтса. Между Вашингтоном и южным театром легла непреодолимая пропасть. Он заметил, что находится в столь "щекотливом положении... в отношении генерала Гейтса", что не хочет даже "конфиденциально" высказывать какие-либо суждения по поводу операций там, "дабы мое мнение, если оно станет известным, не было неблагоприятно истолковано недружественно настроенными людьми".
16 августа Гейтс с 1400 солдатами континентальной армии и 2 тысячами ополченцев дал бой Корнваллису у Камдена в Южной Каролине. Англичане, уступавшие по силам американцам, тем не менее, быстро разгромили их. Это положило конец организованному сопротивлению в южных штатах и карьере Гейтса. Патриотов особенно возмутил тот факт, что битый генерал остановился, чтобы написать донесение конгрессу, только тогда, когда между англичанами и им было свыше 100 километров. Гамильтон язвил: "Прекрасное достижение для человека его возраста!" Вашингтон отнесся к позорному бегству Гейтса с пониманием, заявив: "Безрассудно занимать позицию вблизи превосходящего по силам врага". Конгресс сместил Гейтса и открыл надлежащее следствие. Вашингтон тактично винил не полководца, а ополчение, указав - Камден дал новый предметный урок касательно "фатальных последствий зависимости от ополчения".
Те в Филадельфии, кто еще недавно видел в Гейтсе противовес Вашингтону, склонили головы. Конгресс теперь был готов возложить на главнокомандующего и ответственность за операции на юге, предложив самому избрать генерала для руководства там боевыми действиями. Он назначил Грина, излюбленную жертву нападок политиканов. Сообщая о своем выборе, Вашингтон мстительно приписал: "Я очень высоко ценю новое доказательство доверия конгресса, выразившееся в предоставлении мне права самому назначить генерала на столь ответственный пост". Крыть было нечем, и в Филадельфии молча проглотили пилюлю.
Отправляя на юг Грина, Вашингтон прикомандировал к нему "легкой кавалерии генерала Г. Ли" - на обширных слабозаселенных пространствах было где развернуться конникам и Штебену, ибо "предстояло создать армию". С южного театра уже поступили сведения, что там развернулась партизанская борьба, которая в конечном итоге решила исход дела в этих штатах. Вашингтон все же не верил в успех иррегулярных частей, поэтому он свирепо предостерег Грина: "Мы должны располагать постоянной армией, а не колеблющимся ополчением, которое тает под нами, как цоколь из снега под тяжестью статуи в летний день".
Давным-давно известно, что самое легкое дело давать советы. Вашингтон рекомендовал Грину обзавестись регулярными войсками на юге, а как с комплектованием самой континентальной армии? В пользу ее решительного расширения говорило многое - катастрофа на юге и прибытие наконец из Франции долгожданных войск союзника. 10 июля эскадра адмирала Тени бросила якоря в Ньюпорте, благоразумно оставленном англичанами. Она доставила семитысячный экспедиционный корпус под командованием генерал-лейтенанта Рошамбо. Взгляд на карту - Ньюпорт лежит севернее Нью-Йорка - подсказывал грандиозный стратегический план - зажать англичан в клещи между континентальной армией и экспедиционными силами Рошамбо, а французский флот блокирует побережье.
Вашингтон решил, что час решительного наступления пробил. Он требует увеличения континентальной армии до 25 тысяч и ополчения до 17 тысяч, а также немедленно прилично одеть служивых. Ибо "ужасно и прискорбно" оскорблять французских воинов видом стоящих с ними плечом к плечу оборванцев. Вашингтон потребовал от офицеров "приложить все усилия", чтобы надлежащим образом экипироваться. В приказе сообщались формы одежды (моделирование их всегда доставляло великую радость Вашингтону). Генерал-майорам, например, предписывалось щеголять "в синем мундире, лацканы с вышивкой, желтыми пуговицами, белой с кружевами рубашке, эполетами, на каждом из них две звезды, черными и белыми перьями на шляпе". Офицерам иметь на шляпе кокарду, шпагу на боку или, по крайней мере, "легкий штык".
Если армию в преддверии совместных действий с союзниками удалось кое-как приодеть, главным образом за счет поставок из Франции, то с пополнением дело обстояло много хуже. Титанические усилия вербовщиков дали весьма скромный результат - в континентальной армии значилось 6143 человека, в ополчении - 3700. В 1780 году на один год завербовалось менее половины солдат, чем в 1776-м на трехлетний срок. Оно и понятно: было широко известно, что солдаты практически не получают жалованья, дурно снабжаются, а рассказы о зимовках в Вэлли-Фордж и Морристауне повергали в ужас.
Что бы ни делал Вашингтон, пытаясь пустить пыль в глаза союзникам, Рошамбо очень быстро уяснил истинное положение. Он вежливо отклонил предложение Вашингтона об операции против главных сил врага в Нью-Йорке, а в Версаль писал: "Шлите нам войска, корабли и деньги, но не полагайтесь ни на этих людей, ни на их средства: у них нет ни денег, ни кредита, их возможности сопротивления носят преходящий характер, они поднимаются только тогда, когда на них нападают в собственных домах". Горячее желание Вашингтона, имевшего, по оценке Рошамбо, три тысячи солдат, наступать французский генерал объяснил тем, что "американский главнокомандующий внутренне убежден - ввиду тяжкого финансового положения эта кампания будет последней вспышкой сходящего на нет патриотизма".
Английские победы на юге, тупик под Нью-Йорком придали новую уверенность тори. Дело не ограничивалось тоской по старым добрым временем под скипетром короля, из тори формировались части, сражавшиеся на стороне англичан. До 50 тысяч тори с оружием в руках защищали прежний порядок. В общей сложности было 69 лоялистских полков, хотя только 21 из них по численности оправдывал это название. В середине 1780 года лорд Джермен счел возможным доверительно ободрить Клинтона: "Силы мятежников ныне презренны. Не следует опасаться сопротивления, которое серьезно помешает быстрому сокрушению восстания... Американцев на службе короля теперь больше, чем солдат во всей континентальной армии". Предательство в США действительно достигло внушительных размеров.
Самыми серьезными последствиями могла бы обернуться работа на англичан Бенедикта Арнольда. Прославленный американский военачальник начала войны, Арнольд претерпел немало унижений от конгресса. Вашингтон, высоко ценивший военный талант генерала, тем не менее, не был в состоянии удовлетворить все его претензии. В Филадельфии весной 1779 года сорокалетний Арнольд женился на восемнадцатилетней местной красавице Пегги Шеппард, дочери влиятельного лоялиста. Версии о причинах его предательства различны, но все они сходятся в одном - Арнольд был крайне недоволен службой. Хотя раны, полученные в боях, зажили, отношение конгресса к нему оставило кровоточившую рану. Пегги очень скоро ввела мужа в громадные долги - поощряя ее тщеславие, он поставил дом в Филадельфии на широкую ногу. Для Арнольда, человека XVIII века, война и личное обогащение были синонимами. Он никак не понимал, почему его дискриминируют на общей оргии наживы. Вокруг сколачивались состояния отъявленными мошенниками, его попытка нагреть руки вызвала скандал. Разве не имел права на это боевой офицер?

Пегги Шепперд
Дело кое-как замяли, военный суд приговорил Арнольда к самому мягкому наказанию - выговору Вашингтона. Выполнил неприятную обязанность, Вашингтон предложил Арнольду убраться от филадельфийских склочников и занять "почетный пост" в армии. Арнольд растрогал покровителя своим рвением - он, превозмогая боль в искалеченной ноге, тянулся, рвался в строй. Понаблюдав за израненным ветераном, Вашингтон решил, что лучше всего поручить ему работу, не требующую большого физического напряжения. 3 августа 1780 года Арнольд стал комендантом крепости Вест-Пойнт, запиравшей Гудзон в нескольких десятках километров севернее Нью-Йорка.

Бенедикт Арнольд
О таком назначении Арнольд и англичане, на тайной службе у которых он состоял уже почти полтора года, могли только мечтать. Континентальная армия, потоптавшись у Нью-Йорка, должна была уйти южнее, в Нью-Джерси, где было легче с продовольствием и фуражом. Тогда Вест-Пойнт с трехтысячным гарнизоном приобретал исключительное значение - Арнольду надлежало связать англичан в случае их наступления по Гудзону в направлении Канады, дав возможность Вашингтону подойти с главными силами. Потеря Вест Пойнта грозила катастрофическими последствиями, могли бы стать явью английские планы, вынашивавшиеся с самого начала войны, - отрезать Новую Англию от юга. Не случайно американцы более трех лет строили укрепления в Вест-Пойнте, и, когда Арнольд сел в кресло коменданта, он командовал сильнейшей крепостью США. Жерла орудий с бастионов зорко стерегли Гудзон.
Арнольд предложил Клинтону сдать крепость за 10 тысяч фунтов стерлингов и чин генерала в английской армии. Клинтон согласился, и для уточнения деталей генерал-адъютант английской армии майор Андре встретился с Арнольдом в районе Вест-Пойнта. Обговорив предательскую сделку, Андре 23 сентября тронулся в обратный путь в Нью-Йорк. Он ехал верхом, в штатском платье, а документы, компрометировавшие Арнольда, спрятал в ботинок. Уже на территории, контролировавшейся англичанами, его случайно задержали трое американских ополченцев, обыскали и, обнаружив малопонятные бумаги, потащили в Вест-Пойнт. Американский офицер решил порадовать Арнольда - он поспешил впереди сообщить коменданту о поимке английского шпиона. Выслушав сообщение, Арнольд немедленно бежал к англичанам, оставив в своем доме жену и ребенка.

Майор Андре
По чистейшему совпадению именно в этот день Вашингтон намеревался посетить Вест-Пойнт, начав визит, естественно, с дома коменданта. Едва простыл след Арнольда, не прошло и часа, как у дома Арнольда спешились кавалеристы - Вашингтон, Лафайет, Гамильтон с многочисленной свитой и охраной. Главнокомандующий был неприятно поражен - он уведомил о приезде, а нет и признаков подготовки к встрече. Комендант куда-то запропастился, Пегги, говорят, больна и лежит в комнате наверху. Вашингтон с отвращением съел наскоро сервированный завтрак и отправился в крепость - Арнольд наверняка строит гарнизон для торжественной встречи. Вошли в крепость. Слоняющиеся солдаты в изумлении таращат глаза - пожаловал сам Вашингтон! Пробежав по укреплениям, крайне раздраженный невежливостью Арнольда, главнокомандующий вернулся в дом коменданта.
В четыре дня все открылось. Гонец молча передал Вашингтону пачку измятых бумаг - план Арнольда и Андре сдать Вест-Пойнт! Крик Вашингтона поднял всех на ноги, Гамильтон и Лафайет вбежали в комнату. Задыхающийся генерал ревел: "Арнольд предал пас!" Помедлив, он произнес упавшим голосом: "Кому теперь верить?"
Гамильтон с отрядом всадников бросился в погоню - быть может, удастся схватить предателя. Вашингтон в сильнейшем волнении разбирал бумаги, ужасаясь коварству тщательно разработанного плана. Тут ему доложили, что очаровательная Пегги рехнулась - почти обнаженная, она бегает по комнатам верхнего этажа, утверждая, что у нее на голове раскаленный утюг и только генерал Вашингтон может снять его. Верный рыцарь, каким был Вашингтон, отправился наверх. Юная красавица раскинулась в постели и, отчаянно жестикулируя, вследствие чего присутствующие могли обозреть все ее прелести, объяснила - мужа "унесли на небеса духи, он ушел навсегда". Она отказалась признать склонившегося над кроватью Вашингтона, утверждая, что перед ней злодей, намеревающийся убить ее ребенка. И тут же добавила, что муж исчез, ибо не был в силах предотвратить злодеяние.
Бормоча слова утешения, Вашингтон неловко отступил. Он спустился вниз и с достоинством обратился к присутствовавшим: "Миссис Арнольд больна, а генерала Арнольда нет. Мы должны обедать без них". Звучало так странно, неуместно.
Вечером поступило донесение от Гамильтона - Арнольд но только ускользнул к англичанам, но успел прислать письма - Вашингтону, в котором настаивал, что только "истинный патриотизм" побудил его перебежать к англичанам, и письмо Пегги. Вашингтон, не открывая, отправил его наверх, приписав, что, хотя его долг схватить Арнольда, он рад успокоить супругу - муж вне опасности. Главнокомандующий распорядился не трогать даму, предложив обеспечить ей проезд к мужу. Она предпочла отправиться к отцу в Филадельфию, но вскоре присоединилась к Арнольду за британскими линиями. Патриоты питали серьезные подозрения в отношении Пегги, ее активное участие в заговоре было полностью доказано спустя более полутораста лет - в 1930 году, когда был изучен архив Клинтона.
В руках американцев остался майор Андре. Когда его доставили к Вашингтону, генерал не мог подавить волнения - такой же блестящий молодой человек, как Лафайет, и наверняка занимавший сходное положение у Клинтона. Перед лицом неизбежной смерти Андре вел себя спокойно, с достоинством и был даже весел. Вашингтон проклинал все: должность, войну, жизнь - нужно казнить джентльмена. Он ухватился за спасительную мысль - обменять Андре на Арнольда. Клинтон отказался, прислав пространное письмо, доказывавшее, что майор не был рядовым низким шпионом. Пощадить Андре было совершенно невозможно - нужен был предметный урок всем, особенно тем, кто попытался бы склонить офицеров континентальной армии к предательству.
Андре не питал иллюзий, выразив в личном письме Вашингтону надежду, что не умрет не подобающей солдату смертью в петле. Вашингтон не счел возможным изменять способ казни, приказав только, чтобы рафинированный английский джентльмен увидел виселицу в последний момент. В полдень 2 октября на глазах выстроенных войск Андре был казнен. Он с достоинством принял смерть, а многие стоявшие вокруг не скрывали слез. Плакали навзрыд в штабе, где заперся на время казни Вашингтон с высшими офицерами. Они не успели вытереть слезы, как доставили запоздавшее послание от Арнольда - он грозил страшными карами, если Андре умрет. Англичане прочно закрепили за Вашингтоном прозвище "убийцы", припомнив и давнее дело Жюмонвиля, еще до Семилетней войны. Английские карикатуристы изображали его в виде кровожадного чудовища.
Клинтон выполнил свою часть сделки с Арнольдом, выплатив ему 6315 фунтов стерлингов и обеспечив Пегги пенсией в 500 фунтов стерлингов в год. Он стал генералом английской службы и вскоре возглавил опустошительные набеги. Для американцев Арнольд - символ предательства. В Саратоге стоит безымянный памятник, на котором красуется сапог, что означает: только нога, в которую Арнольд был ранен дважды, заслуживает уважения. В старой военной церкви в Вест-Пойнте на мраморной доске с именами всех генералов войны за независимость значится: "Генерал-майор... родился в 1740 году".
* * *
Шестая зима войны... В Нью-Йорке англичане и тори готовились отпраздновать Новый год. В Ньюпорте, где обосновались союзники - французы не сделали ни шага оттуда с прибытия в США, - в теплых домах уютно и весело. А континентальная армия! Послушаем Вашингтона:
"У нас нет ни денег, ни кредита, чтобы купить хотя бы досок и сделать двери для наших хижин... Если бы солдаты могли, подобно хамелеонам, питаться воздухом или, как медведи, сосать лапу и так перебиться в суровые дни наступающей зимы... Собрав все наше тряпье, мы едва ли обеспечим их теплой одеждой. И что особенно прискорбно - меня положительно заверили - во Франции наготове десять тысяч мундиров. Они лежат там только потому, что наши представители не могут договориться, кому отправить их".
Раздетая армия не годилась для проведения даже небольших операций. Лафайет попытался побудить Вашингтона нанести все же удары по англичанам, напомнить о Трентоне и Принстоне. "Французский двор, - писал он генералу, - часто жаловался мне на неактивность американской армии, которая до заключения союза отличалась предприимчивостью. При дворе мне постоянно говорили: "Твои друзья бросили нас воевать за них, а сами не хотят рисковать". На что Вашингтон ответил: "Невозможно, дорогой маркиз, желать более страстно, чем я, закончить кампанию удачным ударом. Но нам следует сообразовываться с имеющимися возможностями, а не желаниями и не пытаться улучшить наше положение предприятиями, которые могут только ухудшить ее". Собственно, Вашингтон пожинал плоды американской политики - США всецело положились на союз с Францией, а армия Бурбонов пока не рвалась в бой на американской земле.

Сражение у Принстона 3 января 1777 года
Континентальная армия была низведена до жалкого положения. Только "невероятная пассивность" врага, писал Вашингтон, позволила удержать в ту осень Вест-Пойнт, "дала нам возможность маячить у их квартир (у Нью-Йорка. - Н. Я.), в то время как у нас едва-едва хватало солдат, чтобы выставлять обычное охранение". Накануне нового, 1781 года Вашингтон писал генералу Кедваладеру: "Я не вижу ничего впереди, кроме новых бед. Половину времени мы сидим без продовольствия, и так будет дальше. У нас нет складов и нет средств на создание их. Очень скоро мы останемся и без солдат, ибо у нас нет денег, чтобы платить им. Мы кое-как держались, но всему приходит конец. Одним словом, история этой войны - история ложных надежд".
1 января 1782 года случилось то, что давно предсказывал и ожидал Вашингтон, - войска восстали. Поднялись все полки из Пенсильвании, расквартированные в Морристауне, - 2400 человек. Солдаты убили капитана, ранили несколько офицеров и, захватив шесть орудий, пошли на Филадельфию. Полки возглавили сержанты. Генерал Вайн попытался задержать восставших, он угрожал зачинщикам пистолетами, в ответ над его головой прогремел залп. Вайн расстегнул мундир и драматическим жестом предложил поразить его сердце. Солдаты разъяснили, что они не таят зла на боевого генерала, а намерены добиться справедливости у конгресса, забывшего об армии. Нельзя, кричали они, потрясая мушкетами, больше так жить и служить - голодными, без обмундирования, получать жалованье бумажками.
Вашингтон, узнавший о восстании, осмотрительно не покинул Вест-Пойнт, солдаты крепости были ненадежны, "они только дожидались результатов мятежа пенсильванцев". Он поручил разузнать настроения частей из Новой Англии, результат обескураживающий - солдаты не выступят на подавление своих товарищей. Лафайет попробовал свои силы - он встретился с восставшими. "Эти смелые люди, - писал он, - страдали вместе с нами четыре года". Они не получали жалованья пятнадцать месяцев, их задержали на год против обещанного срока службы. "Было бы весьма неуместно", признался он, поднять меч на восставших, ибо "вероятность сокрушения их недостаточна, чтобы решиться нанести удар". Полк, посланный отобрать орудия, уже присоединился к восставшим.
Волей-неволей пришлось идти на уступки. Вашингтон рекомендовал конгрессу не бежать из Филадельфии, а отрядить представителей для переговоров с мятежными пенсильванцами. Одновременно он обратился с требованием к губернаторам штатов Новой Англии немедленно предоставить деньги и обмундирование. Президент конгресса Рид встретил восставшие полки в Принстоне. Начался унизительный для конгресса торг. Ветераны демонстрировали свои рубища, шрамы от ран, заверяли, что "сама идея стать арнольдами им ненавистна", но упорно отказывались передать до удовлетворения их требований двух английских эмиссаров, которых успел прислать к ним Клинтон с самыми соблазнительными посулами.
Рид уступил всем требованиям. В обмен на выдачу английских агентов (оба были немедленно повешены) и прекращение восстания пенсильванцы получили все просимые материальные компенсации, были одеты, обуты, накормлены. Половина восставших с разрешения конгресса немедленно расходилась по домам, вторая половина последовала за ними в середине апреля 1782 года. Пенсильванские полки, по крайней мере, временно, перестали существовать. Вашингтон лишился многих ветеранов, на подготовку которых было затрачено столько сил и средств.
Пример пенсильванцев оказался заразительным. 21 января восстали солдаты из Нью-Джерси. Вашингтон вздохнул с облегчением - мятежников всего около двухсот, они направились на столицу штата Трентон с требованиями, аналогичными выставленным пенсильванцами. У Вашингтона был наготове карательный отряд - шестьсот человек генерала Хоу, которых первоначально хотели использовать против пенсильванцев, но не решились. С начала января этих людей кормили и поили на убой. Они были тепло одеты и отлично вооружены. Вашингтон приказал Хоу подавить восстание.
Сообщая циркуляром губернаторам тринадцати штатов о принятых мерах, Вашингтон писал: "Будучи убежденным, что, если решительными мерами не подавить этот опасный дух, им будет заражена вся армия. Я приказал отряду, максимальному по численности, который мы только смогли выделить, проследовать во главе с генерал-майором Хоу с приказом заставить мятежников безоговорочно капитулировать, не выслушивать никаких их условий, пока они готовы оказать сопротивление, а по капитуляции немедленно казнить нескольких зачинщиков. Я не знаю, как поведут себя посланные для этой цели войска, но льщу себя надеждой, что они выполнят свой долг. Я предпочитаю любые эксцессы со стороны войск из Нью-Джерси компромиссу".
Вашингтон считал это небольшое восстание небесным даром - представлялся случай преподать урок всей армии. Что случилось бы, если восстание было большое по масштабам! Он выехал в санях вслед за отрядом Хоу. Когда каратели прибыли к месту назначения, Вашингтон был обескуражен - офицеры уже договорились с мятежниками - им обещали, если они разойдутся, освободить от наказания. Вашингтон был вне себя от бешенства - глупцы в офицерских мундирах сорвали великолепный замысел на примере мятежников проучить армию. Он вызвал офицеров и подробно опросил, кто-то заметил, что солдаты все еще "полностью не повинуются". Вот он, искомый предлог! Вашингтон постановил - мятеж продолжается, и каратели приступили к делу.
Хижины нью-джерсийских солдат окружили, удивленным людям приказали построиться, и двое зачинщиков были на месте расстреляны. Это поручили двенадцати их ближайшим товарищам. Они роптали, плакали, но повиновались.
"Само существование армии, - комментировал Вашингтон, - требовало примера". Он добавил: "гражданские свободы" не могут существовать, если солдаты "диктуют свои условия родине". В общем приказе по армии 30 января Вашингтон разъяснил: "Генерал глубоко понимает страдания армии. Он делает все, чтобы облегчить их, и убежден, что конгресс и ряд штатов также прилагают все усилия для достижения этого. Однако, когда мы ожидаем от страны выполнения ее обязательств, мы должны помнить о ее сложном положении. Мы начали борьбу за свободу и независимость с очень ограниченными средствами для ведения войны, полагая, что патриотизм компенсирует нехватку их. Мы ожидали тяготы, и мы не должны пасовать перед ними, равно как не бросать вызов закону и порядку, дабы добиться облегчения".
В эти тяжелые месяцы Вашингтоном всецело овладела идея - наказать предателя, изловить и повесить Арнольда! Хитроумный план выкрасть его из Нью-Йорка рухнул, а вскоре Арнольд объявился в Вирджинии во главе полуторатысячного отряда. Клинтон дал ему этих солдат, чтобы развернуть кампанию на юге. Для Арнольда представилась возможность осуществить личную месть. Оп шел по Вирджинии, оставляя за собой пепелища плантаций, разгоняя местное ополчение. Над родным штатом Вашингтона нависла смертельная опасность. Главнокомандующий отправил в Вирджинию Лафайета с войсками. Но тот не мог ничего поделать - весной Корнваллис, уставший гоняться за неуловимым Грином, бросил Северную Каролину и вторгся в Вирджинию. Лафайету с его трехтысячным отрядом, состоявшим в основном из ополченцев, было не до Арнольда, во имя самосохранения он должен был держаться подальше от семитысячного корпуса Корнваллиса. Тем более что лорд поклялся изловить "молокососа".
Мрачные известия накапливались буквально с каждым днем, они вывели Вашингтона из себя. Он стал срываться по пустякам, буквально превратился в грозу даже для самых близких. По пустячному поводу он грубо оскорбил Гамильтона, тот вспыхнул как порох и отказался от адъютантства. Хотя, одумавшись, Вашингтон передал Гамильтону извинения, честолюбивый офицер отказался принять их. Тестю генералу Шайлеру Гамильтон объяснил: "В течение трех лет я не испытывал никаких дружественных чувств к нему и не заикался о них. Наши характеры противоположны, и моя честь не позволяет мне выражать то, чего нет. Более того, когда он обратился с извинениями, они были встречены так, чтобы не осталось сомнения - я не желаю их и предпочитаю вести с ним дела на основе военной службы, а не личной привязанности". Гамильтон ушел из штаба, получив командование батальоном легкой пехоты.
Беда в отношениях с Вашингтоном заключалась в том, что он был в прямом и фигуральном смысле на голову выше окружающих. Природный ум, отточенный в годы военных испытаний, позволял ему быстрее схватывать суть событий, он соображал молниеносно и не скрывал раздражения, когда близкие люди не успевали усмотреть то, что представлялось ему очевидным. Если ему нравился кто-либо, как было с Гамильтоном, то Вашингтон не мог представить себе, почему данный человек осмеливается иметь мнение, отличное от его. Разве дружественное расположение главнокомандующего не порука беспредельного взаимного доверия? Вашингтон всегда болезненно переживал, когда обнаруживалось, что обласканный дерзал свое сужденье иметь. Все это усугублялось тем, что Вашингтон часто испытывал жуткие головные боли. Ему было почти пятьдесят лет, он был издерган, тогдашние дантисты скрепили больные зубы проволокой, и они кое-как держались. Можно было удалить их, но представить главнокомандующего шамкающим беззубым ртом! Это было слишком для джентльмена, а сделать протезы в военном лагере было невозможно.
Как будто мало было ударов судьбы по Вашингтону как военачальнику, на него свалилась личная беда. В апреле 1782 года курьер привез письмо Лафайета из Вирджинии. Верный маркиз сообщал, что английский корабль бросил якорь напротив Маунт-Вернона. "Когда враги вошли в ваш дом, - докладывал Лафайет, - многие негры были готовы присоединиться к ним, по эти дела меня мало интересуют. Однако вы не можете представить себе, как я был опечален, узнав, что м-р Лунд Вашингтон отправился на вражеский корабль и согласился снабдить его провиантом. Поведение человека, отвечающего за вашу собственность, конечно, произведет дурное впечатление, и оно резко отличается от поведения некоторых соседей, дома которых из-за сопротивления были сожжены. Вы можете поступать как заблагорассудится, но чувства дружбы заставляют меня доверительно довести до вашего сведения эти факты".
Материальные потери были невелики - с англичанами, обещавшими свободу, ушли семнадцать негров, но моральный ущерб престижу главнокомандующего не поддавался исчислению. Радость по поводу того, что родной дом уцелел, сменил гнев. Вашингтон выговаривает Лунду: "Я, конечно, сожалею о понесенных мною убытках, но что куда больше беспокоит меня - как вы могли пойти на вражеский корабль и снабдить его продовольствием? Мне было бы легче услышать, что в результате вашего отказа повиноваться мой дом сожжен, а плантации в руинах. Вам нужно было вести себя как моему представителю, и вы должны были бы подумать о дурном примере, который дает связь с врагом и добровольное предоставление ему продовольствия, чтобы избежать разорения. Вы, конечно, не были в состоянии противодействовать их высадке, и вы правильно встретились с ними. Но дальше, как только стала ясна их цель, вам следовало ясно заявить, что вы не можете уступить. После чего, если бы они взяли продовольствие силой, вы бы подчинились. Такой образ действия (коль скоро у вас нет средств защиты) предпочтительнее слабому сопротивлению, которое служит только предлогом для поджога и уничтожения всего".
Весьма поучительное письмо! В нем весь рассудительный Вашингтон, учивший сохранять лицо в невозможных обстоятельствах. Во всяком случае, он нашел третий выход, что задним числом и втолковывал преданному тугодуму Лунду.
* * *
Конгресс постепенно привык полагаться на Вашингтона, используя даже его популярность. Чрезвычайным и полномочным послом США в Версаль отправили двадцатишестилетнего полковника Д. Лоренса. Основной мотив - его близость к главнокомандующему. Ему Вашингтон мог писать откровенно и весной 1781 года отправил шифрованное послание. Генерал заклинал своего ученика добиться новых субсидий при дворе Людовика XVI:
"Будь уверен, мой дорогой Лоренс, день не следует за ночью с большей регулярностью, чем очевидно, - происходят все новые и новые доказательства: невозможно продолжать войну без помощи, которую вас послали просить. Как честный и откровенный человек, все будущее которого зависит от счастливого завершения нынешней войны, я решительно заверяю - без иностранного займа наши нынешние силы (в сущности, только остатки армии) не могут быть сохранены для нынешней кампании... Если Франция не окажет в этот момент своевременной и широкой помощи, позднее она будет бесполезна. Мы висим на волоске, вы должны помнить - мы не можем доставить продовольствие, ибо не можем расплатиться с возчиками, которые больше не хотят работать за сертификаты. В равной степени очевидно, что наши солдаты очень скоро будут раздеты, нам не во что одеть их, в госпиталях нет медикаментов... Но стоит ли мне продолжать, когда можно заявить одним словом - мы дошли до предела, и спасение должно прийти ныне или никогда?"
Не сгущал ли Вашингтон краски? Обратимся к статистике (данные о численности войск округлены, а финансовые затраты пересчитаны в стабильных долларах):
| Годы | Континентальная армия | Ополчение | Военные расходы США |
| 1775 | 25000 | 10000 | - |
| 1776 | 43000 | 43000 | 20 млн. долл. |
| 1777 | 34000 | 33000 | 24 » » |
| 1778 | 33000 | 17000 | 23 » » |
| 1779 | 27000 | 17000 | 11 » » |
| 1780 | 22000 | 23000 | 3 » » |
| 1781 | 13000 | 16000 | 2 » » |
Союз с Францией, как красноречиво свидетельствуют эти данные, явился поводом, чтобы ослабить военные усилия США. Франция, конечно, не могла сделать все за американцев, но сделала много - ее помощь оценивалась в 8 миллионов долларов. Обстановка, как видел ее Вашингтон, складывалась безнадежная, и впервые с начала войны он заговорил о компромиссном мире, допуская, что за англичанами останется территория США, попавшая под их контроль. Франклину в Париж он пишет: "В нашем нынешнем положении жизненно важны две вещи - мир или самая энергичная помощь со стороны союзников, особенно деньгами". Он прекрасно понимал, что ресурсы США далеко не исчерпаны, но мобилизовать их, то есть поднять людей на справедливую войну, можно только за хорошую плату.
Компромиссный мир явился бы катастрофой лично для Вашингтона - англичане бесчинствовали в Вирджинии и фактически захватили родной штат. В случае мира Вирджиния осталась бы за короной, Вашингтон был бы разорен и навсегда превратился в изгнанника. Губернатор Т. Джефферсон от имени земляков умолял Вашингтона вернуться в Вирджинию и возглавить борьбу против англичан. Вашингтон отказался. Это делало ему честь - вирджинцы изнывали от желания видеть Вашингтона у себя не просто генералом, а диктатором. Разбежавшиеся от английских войск плантаторы юга, и не одни они, считали, что страну может спасти только диктатура Вашингтона. Он же полагал, что это будет означать не только нарушение высоких республиканских принципов, но и предательство дела всей войны. И если летом и осенью 1781 года центр боевых действий переместился в Вирджинию, то произошло это скорее против воли Вашингтона и отнюдь не было связано с защитой родного штата.
Используя все средства убеждения, Вашингтон неизменно стремился побудить Рошамбо вместе с континентальной армией взять Нью-Йорк. Французский командующий внимательно слушал Вашингтона, читал его пламенные письма и убеждался в близорукости американцев. С военной точки зрения кампания на юге вместо штурма бастионов Клинтона обещала много больше. На юге можно было быстро использовать французские войска и флот из Вест-Индии и нанести решительное поражение англичанам. Внушения Вашингтона, что континентальная армия-де - серьезная боевая сила, вызывали у Рошамбо улыбку - он не верил, что истощенное и недисциплинированное воинство сможет эффективно действовать против укрепленного Нью-Йорка.
Щадя чувства союзников, занятых священной борьбой за свободу, Рошамбо согласился, что объединенные франко-американские силы пойдут на Нью-Йорк. Вашингтон ликовал, хотя не понимал многого в поведении французов. Так, было договорено, что эскадра французского адмирала Барраса покинет Ньюпорт и будет содействовать операциям на суше против Нью-Йорка. Вашингтон уже уточнил детали разгрома Клинтона, как прискакал посланец Рошамбо, сверхэлегантный герцог де Лоцан. Он передал решение французского военного совета - эскадра остается в Ньюпорте. Изящный герцог, искусно скрывая улыбку, наблюдал, как предводитель едва отесанных варваров настолько разъярился, что три дня не мог написать ответ Рошамбо. Любимец двора и любовник Марии-Антуанетты де Лоцан забавлялся от всей души. Он оказался в США, как и многие отпрыски французских великосветских семей, пресыщенные Версалем, в поисках развлечений и приключений.
Вашингтону было не до шуток - Рошамбо внешне учтиво показал генералу, что французская армия отнюдь не под его командованием. Вашингтону, в конце концов, пришлось согласиться с решенным без него и против его воли. Ему нужно было поддерживать фикцию - американцы-де руководят союзными силами. Он взывал к штатам - пополнить континентальную армию, ибо впереди ослепительная победа над Клинтоном, которой помогут французы. Но сколько-нибудь значительных подкреплений Вашингтон не получил, ибо поток новобранцев был прямо пропорционален размерам кассы армии. А она была пуста. Единственное утешение - в конце мая Лоренс сообщил из Парижа, что французский кабинет выделил США еще шесть миллионов ливров, часть из них Вашингтон может истратить по своему усмотрению. Но деньги нужно было еще получить, путь из Франции долог.
Примерно в двадцати километрах к северу от Манхэттена, в Доббс-Ферри, Вашингтон приготовил лагерь для объединенных сил, куда только 6 июля пришел Рошамбо с армией. Впервые союзники могли вплотную осмотреть друг друга. Армия Бурбонов в белоснежных мундирах (полки различались только по цвету лацканов, воротников и пуговиц мундиров) и оборванное американское воинство, оцепеневшее, когда под рокот барабанов французы устроили парад. Вашингтон потчевал чем мог французских офицеров. Они, переглядываясь, нашли стол американского вождя примитивным - только одна тарелка, салат нещадно полит уксусом, кофе слабый и совершенно невыносимые вино и ром. Аристократы с трудом вынесли пытку трапезы у благодушного Вашингтона, многочасовое сидение за обедом, затянувшееся до позднего вечера, крики и хвастовство американских офицеров. Король, несомненно, выбрал себе странных друзей. Но дурное общество не слишком шокировало французов, они были преисполнены легкомысленной воинственности, отличающей престарелые монархии.
Вашингтон выезжал с Рошамбо на рекогносцировки около Нью-Йорка, американец все объяснял, а француз согласно кивал головой. Увиденное лишь убедило Рошамбо в правильности уже избранного за спиной Вашингтона курса. Он списался с командующим французским флотом в Вест-Индии адмиралом де Грассом и договорился - удар будет нанесен Корнваллису в Вирджинии. Де Грасс согласился в середине сентября прибыть к Чезапикскому заливу, куда подойдет Рошамбо и, если угодно американцам, континентальная армия. "Эти люди здесь, - писал Рошамбо де Грассу, имея в виду Вашингтона с армией,- достигли предела своих ресурсов. У Вашингтона нет и половины войск, на которые он рассчитывал. Хотя он и скрывает, я думаю, у него нет и шести тысяч... Таково состояние дел и таков глубокий кризис, который переживает Америка, особенно в южных штатах. Прибытие графа де Грасса может спасти ее, все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, бесполезны без его помощи и обеспечения им господства на море". Эскадра Барраса получила приказ также прибыть в сентябре к Чезапикскому заливу, доставив артиллерию и припасы французов.
14 августа Вашингтону, готовившему викторию у Нью-Йорка, наконец, сообщили французский план. Он вознегодовал, ругался, но быстро смирился - де Грасс имел 28 линейных кораблей с тремя тысячами солдат на борту. Отказаться принять участие в операции было бы смешно, французы провели бы ее сами, бросив континентальную армию у Нью-Йорка. Чтобы успеть прибыть в Вирджинию к подходу эскадры де Грасса, войскам Рошамбо и Вашингтона предстояло пройти форсированным маршем около 750 километров. Операция не могла не увенчаться успехом - Корнваллис совершил фатальную ошибку, отведя свой корпус к Йорктауну, где он мог быть заперт де Грассом с моря и атакован Рошамбо и Вашингтоном с суши. Когда Вашингтон узнал об этом, он загорелся кампанией на юге и, беспощадно понукая армию, двинулся в Вирджинию, за ним без лишней спешки, но споро пошли войска Рошамбо.
Вот и родной штат, Вашингтон горел нетерпением, шел седьмой год, и он впервые должен был увидеть Маунт-Вернон! 9 сентября, проскакав с адъютантом за день почти сто километров, Вашингтон спешился у дверей дома. Позади разоренный войной край, здесь ничего не изменилось - испуганные лица маленьких детей, которые родились в его отсутствие, - трое внучек и внук. Безупречно одетый приемный сын Джон Кастис прячет блудливые глаза - он определенно побаивался Вашингтона. Все эти годы Джон не нюхал пороха, а вел беспутную жизнь. С пьяными гостями он ставил на стол среди бутылок крошечную девочку, и под одобрительный рев она читала непристойные стихи, заученные под руководством отца.
Вашингтон пробыл в Маунт-Верноне три дня, потчуя французских генералов. Рошамбо и другие оценили гостеприимство плантатора, а Джон Кастис, очарованный французскими аристократами, вызвался идти волонтером под Йорктаун. Война в таком обществе представлялась приятной прогулкой. Вашингтон, более чем прохладно относившийся к бездельнику и моту, понадеялся было на Марту - она отговорит любимое дитя. Куда там! Марта светилась материнской гордостью. Предвидя только неприятности от появления приемного сына в армии, Вашингтон нехотя согласился. Утешало разве то, что Джон произвел самое благоприятное впечатление на великосветских лоботрясов, кишевших вокруг Рошамбо.
А на борту 110-пушечного флагмана "Город Париж" (крупнейшего военного корабля в мире по тем временам) уже бесновался де Грасс. Он рассчитал, что может оставаться в Чезапикском заливе только до 15 октября, а затем вернуться в Вест-Индию драться с англичанами. Великолепный адмирал раскаивался, что связался с осадой Йорктауна. Он опасался вражеского флота - уже пришлось отбить эскадру английского адмирала Грейвса. Этот флотоводец был нерешительным, но американские воды бороздили эскадры отважных морских волков адмиралов Худа и Роднея. Де Грасс боялся неблагоприятной погоды, опасался за судьбу кораблей Барраса (им удалось благополучно проскользнуть) и поносил на чем свет стоит опаздывавшие войска с севера, забыв, что сам явился на место действия ранее обещанного. Вашингтон получил от него письмо, как будто он был неисправный подчиненный. Адмирал выражал "досаду" по поводу задержки континентальной армии и добавлял: "Приближается такое время года, когда я вопреки моему желанию буду вынужден оставить своих союзников, для которых я сделал все и даже больше, чем можно было ожидать".
17 сентября Вашингтон поднялся на борт величественного флагмана "Город Париж". Американцы уже были оглушены и ошеломлены воинскими почестями - холостыми залпами, музыкой, приветствиями, но подлинное испытание ожидало главнокомандующего на палубе. Де Грасс, гигант и толстяк, схватил в объятия Вашингтона и, обдавая запахом спиртного, заорал: "Вот и ты, мой дорогой крошка генерал!" Общий смех, Нокс хлопал руками по собственному исполинскому животу, демонстрируя, что уж он-то не уступает де Грассу. Вашингтон побелел, он, придававший такое значение ритуалу, был уязвлен до глубины души. Бесцеремонный моряк покусился на достоинство Соединенных Штатов! Он немедленно зачислил и де Грасса в число недоброжелателей великих американских принципов, отзываясь о нем как о "смелом", но "совершенно бестактном" офицере.
Новые испытания и унижения - на ежедневных штабных совещаниях французы бойко сыпали специальными терминами и горячо обсуждали малопонятные дела, связанные с взятием Йорктауна правильной осадой. Надуваясь важностью, Вашингтон молча слушал... и соглашался. Он хранил достоинство номинального главнокомандующего, в то время как французские артиллеристы решали тактические вопросы. 9 октября, обложив Йорктаун и отрыв первую параллель, союзники открыли артиллерийский огонь по редутам Корнваллиса. Честь сделать первый выстрел была предоставлена Вашингтону. Он с удивлением увидел, что ядро точно легло в предназначенное место. Когда же загремели американские батареи, французы едва сдерживались от смеха. Ядра не поражали цели, бомбы часто не взрывались. Вашингтону объяснили, что у французов были новые пушки и хороший порох...

Капитуляция англичан при Йорктауне. 1781 год
Рошамбо снисходительно заметил: "Нужно воздать американцам должное - они проявляли рвение, мужество и старались подражать... хотя они совершенно невежественны в проведении осады". Французский генерал не был прав во всем - если осаждавшие Корнваллиса 1-7 тысяч человек делились примерно поровну между французами и американцами, то французские потери при взятии Йорктауна более чем в два раза превысили американские. Континентальная армия наверняка куда лучше умела укрываться, частично за спинами французов. Что до Вашингтона, то он проявил должное мужество и невозмутимость, зафиксированные впоследствии в его жизнеописаниях.

Главнокомандующий континентальной армией
Сцена первая. Ядро, упав рядом с Вашингтоном и капелланом, преподобным отцом Эвансом, засыпало землей шляпу служителя бога. Сняв ее, Эванс крикнул Вашингтону:
- Взгляните, генерал!
- Мистер Эванс, свезите лучше шляпу домой и покажите вашей жене и детям, - ответил Вашингтон.
Сцена вторая. Вашингтон и адъютант ожидают начала атаки вражеского редута. Пока тихо. Адъютант прикоснулся к руке Вашингтона и умоляюще произнес:
- Сэр, здесь вы стоите слишком открыто. Не лучше ли отступить немного назад?
- Полковник Кобб, если вы боитесь, вы вольны отойти!
Осада шла как по маслу по принципам великого в XVIII веке французского фортификатора Вобана. Заложили вторую параллель, перетащили на нее орудия и стали осыпать ядрами и бомбами не только Йорктаун, но и английские корабли, стоявшие в порту. Корнваллис, потеряв их, утрачивал возможность уйти из осажденного города. Лорда, прославившегося решительностью, в дни осады как подменили. Он не проявил нужной распорядительности и тратил время в основном на ругань в адрес Клинтона, который неразумными распоряжениями загнал его корпус в мышеловку. Он положился на выручку флота из Нью-Йорка, но подготовка экспедиции задержалась. Корнваллис сделал последнюю попытку - собрал лодки, чтобы перебросить личный состав корпуса через реку Йорк и уйти по суше от врага. Сильный шторм помешал осуществлению плана.
В боях под Йорктауном Вашингтон не забыл Гамильтона, дав ему возможность отличиться. Во главе четырехсот солдат Гамильтон взял в ночь с 14 на 15 октября английский редут, чтобы выровнять вторую параллель. На этом активные действия закончились - американцы потеряли 88 человек, французы - - 186. Дело продолжили артиллеристы. Выдержав еще два дня бомбардировки - общие потери Корнваллиса достигли 482 человек, - 17 октября он послал парламентеров договариваться о сдаче - ровно за неделю до прибытия к Чезапикскому: заливу эскадры, посланной Клинтоном на помощь из Нью-Йорка.
Церемония капитуляции состоялась 19 октября 1781 года. Вдоль дороги из Йорктауна в два ряда выстроились союзные армии - французы слева, американцы справа. В дальнем конце коридора, образованного шеренгами солдат, Вашингтон, Рошамбо и множество генералов на конях. Нервное ожидание разрядили оркестры - французские играли "великолепно", американские "терпимо". Наконец из Йорктауна появилась колонна войск Корнваллиса. С первого взгляда было видно, что англичане и гессенцы не потеряли напрасно ночь перед капитуляцией - они медленно маршировали в парадных мундирах. Блестели начищенные пуговицы и штыки. Красные ряды англичан по своему великолепию могли соперничать только с белоснежными шеренгами французов.
Английские офицеры скомандовали равнение направо, и войска шли, пристально вглядываясь в лица французов, подчеркивая, что капитулируют перед равной армией, но не перед сбродом, толпившимся слева. Глухо рокотали барабаны, пронзительные волынки английского оркестра выводили песенку "Мир перевернулся вверх тормашками". Лафайет, гордо стоявший перед своей оборванной дивизией, не мог вынести такого бесчестья своих американских друзей. Он дал знак, и американский оркестр оглушительно грянул варварскую мелодию "Янки дудль". Английские солдаты, вздрогнув, инстинктивно взглянули в сторону, откуда доносился ужасающий шум. Американцы вовсю скалили зубы, строили рожи, приплясывали от восторга и грозили побежденным. Нет, лучше смотреть на французов, на лицах их офицеров, по крайней мере, братское сочувствие.
По мере приближения головы колонны Вашингтон жадно вглядывался в генерала, возглавлявшего ее. Он определенно не был Корнваллисом, много моложе и в мундире бригадного генерала. Корнваллис, сказавшись больным, прислал вместо себя генерала О'Хара. Англичанин повернул лошадь к группе французских генералов и осведомился, где Рошамбо. Французы поняли намерение О'Хара вручить шпагу их военачальнику и адресовали представителя Корнваллиса к Вашингтону. Тот с видимой неохотой подъехал к американским генералам. В тонкостях этикета Вашингтон ориентировался молниеносно. Он указал О'Хара на генерала Линкольна, совсем недавно сдавшего Чарлстон, выменянного из плена и теперь красовавшегося среди торжествующих победителей.
Армия Корнваллиса сдалась. В плен пошло свыше 8 тысяч англичан и гессенцев, грубо говоря, четвертая часть сил, которыми Англия располагала в Северной Америке. Вечером Вашингтон дал банкет в честь командования трех армий. Американцы негодовали по поводу сверхвнимательного отношения французов и англичан друг к другу, их объединял дух "законных" армий монархов. Вашингтон возгласил тост за короля Франции.
Победу над Йорктауном США встретили колокольным звоном, фейерверками, банкетами. Толпы кричали "ура!" и чествовали патриотов. Конгресс благодарил направо и налево. Он вотировал преподнести два взятых английских знамени Вашингтону; по трофейной пушке Рошамбо и де Грассу; лошадь и шпагу гонцу, привезшему в Филадельфию весть о победе. Получение из Франции, наконец, бочонков с золотыми монетами (очередной заем) поднял энтузиазм почтенного собрания на невиданные высоты. Постановили воздвигнуть в Йорктауне мраморную колонну, увенчанную эмблемами союза между США и Францией с надписью-рассказом о достопамятной осаде и капитуляции. Республика расправляла крылья - начав с назидательных латинских изречений о вредоносных тиранах, намалеванных на щитах, обращенных к неприятелю во время осады, теперь надпись на мраморе на века!
Трудно сказать, что именно было на уме Вашингтона, но он очень сдержанно сообщал о победе, превозносившейся всей страной. Ревниво оберегая свои прерогативы главнокомандующего, Вашингтон сухо поблагодарил Рошамбо и его армию за "одобряющую и умелую помощь", а американским солдатам предложил "от всего сердца выразить благодарность, которую требует от нас повторное и удивительное вмешательство Провидения". Если под "Провидением" разуметь, что победа была достигнута по французским планам и вопреки первоначальным замыслам Вашингтона, то для посвященных слова звучали иронически. Только в 1788 году Вашингтон нашел силы публично признать, что кампанию, приведшую к Йорктауну, подготовили французские стратеги.
Вашингтон попытался побудить де Грасса продолжить боевые действия - англичане удерживали Вилмингтон в Северной Каролине и Чарлстон. Он выступил в ненавистной роли просителя, использовал "все аргументы и средства убеждения", но де Грасс был неумолим. Адмирал рвался воевать в Вест-Индии. Вашингтону пришлось подчиниться. Де Грасс с флотом, солдатами и трофейной пушкой исчез с североамериканской сцены, он направился навстречу своей судьбе - на следующий год английский адмирал Родней наголову разгромил его флот у Гваделупы, взяв неунывавшего толстяка в плен. Рошамбо с войсками стал на зимние квартиры в гостеприимной (французы платили твердой валютой) Вирджинии.
Большую часть континентальной армии Вашингтон отправил на север, а сам решил отдохнуть в Маунт-Верноне. Он неторопливо ехал домой, нанося визиты людям, которых почти забыл, как узнал - Джон Кастис умирает в доме знакомых. Вашингтон поспешил к смертному одру приемного сына. 5 ноября Джон скончался от дизентерии, именовавшейся тогдашними эскулапами "лагерной лихорадкой". Вашингтон, хотя двадцать два года и был "папой" бездельника, не мог заставить себя выразить личное горе, но стенания Марты и невестки тронули его. Он скорбел с ними и быстро устал в похоронной атмосфере Маунт-Вернона. Генерал отправился в Филадельфию. 16 ноября он пишет Грину: "Я попытаюсь побудить конгресс наилучшим образом использовать наш недавний успех, приняв самые энергичные и эффективные меры, дабы быть готовыми рано открыть решительную кампанию на следующий год. Я больше всего боюсь, что конгресс, переоценив значение этого успеха, решит, что наши труды почти завершены, и впадет в дремоту. Чтобы предотвратить эту ошибку, я сделаю все, и если, к прискорбию, мы все же окажемся в этом фатальном состоянии, не я буду виноват".
Филадельфия встретила Вашингтона торжествами неслыханными и невиданными, его всячески превозносили. Вечерами во всех окнах выставлялись свечи, которые в домах состоятельных граждан освещали различные аллегории, героем которых был Вашингтон. Он с понятным смущением рассматривал собственные изображения с неизменной короной на голове, в самых героических позах поражающего длинным копьем или чудовищным мечом мерзко выглядевшего дракона, символизировавшего ненавистную Британию. Стоило ему появиться в театре, как с подмостков просили генерала оказать такое же покровительство музам в мире, как он оказывал свободе на войне. В прологе пьесы Гаррика "Лживый слуга" по странной прихоти драматурга Вашингтона умоляли защитить "Новые Афины, воссиявшие на Западе". В первой американской опере, скорее пародии на нее, "Замок Минервы", сочиненной Д. Хопкинсоном, хор дев во главе с молодыми дамами, изображавшими Минерву и гений Франции, восславил "увенчанного победой воинственного сына Колумбии, блистательного Вашингтона".
Наверное, он ежился в ложе, когда, подвывая, читали в его честь благостные оды или в тех же возвышенных интересах не очень мелодично пели. Спектакль в Филадельфии, а сценой был весь город, укрепил Вашингтона в худших подозрениях - американцы считали войну законченной. Он бредил новыми кампаниями, вымаливая у конгресса средства на армию. Вашингтон и в мыслях не допускал, что Лондон откажется от дальнейшей борьбы. В конгрессе иногда соглашались с ним, слали просьбы штатам, но те денег не давали. Война угасала на глазах. Вылазки ретивых тори, пытавшихся вскоре после Йорктауна разжечь партизанскую войну, пресек новый английский командующий в Северной Америке Карлтон, сменивший Клинтона. Везде, где оставались английские войска, а их насчитывалось в общей сложности до 25 тысяч человек, воцарилось затишье. В Лондоне нарастало стремление покончить дело в Северной Америке миром, Англия вела хлопотливую войну против Франции, Испании и Голландии на других театрах. Расточительство сил против США представлялось сущей бессмыслицей и даже чепухой.
Американские политики, как чуткий сейсмограф, реагировали на изменения на международной арене и считали совершенно излишним тратиться на армию. Все попытки Вашингтона убедить в противоположном и, следственно, довершить борьбу за независимость славной викторией, добытой французским оружием, но в руках американских солдат, были гласом вопиющего в пустыне. Он прибег к крайним средствам, взывая к чувству чести. В начале 1782 года в циркулярном письме губернаторам тринадцати штатов Вашингтон, как обычно, просил денег и прозрачно указал: "С прискорбием извещаю Вашу Светлость, что на основе самых достоверных сведений могу заверить Вас: французский двор очень недоволен отсутствием энергии и усилий в Штатах и тем настроением, которое представляется, по меньшей мере, склонностью, если не желанием, взвалить все бремя войны в Америке на Францию".
Пятидесятилетний идеалист! Как будто война за независимость не дала достаточно доказательств, что торгаши легко расставались с честью, если вообще были знакомы с ней, но не с деньгами. Начиная от Йорктауна до мая 1782 года, от всех штатов континентальная армия получила 5500 долларов, меньше ее расходов за день.
Йорктаун подвел черту под войной, хотя до официального мира между Англией и США было еще далеко.
|
ПОИСК:
|
© USA-HISTORY.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'