
Камни и люди
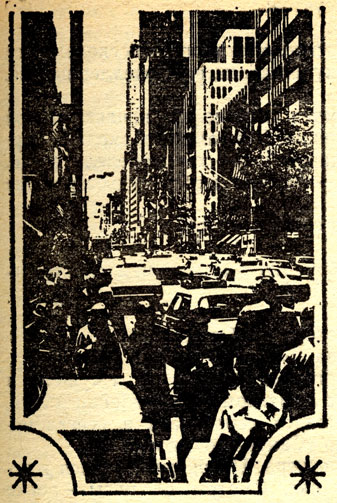
Улица Нью-Йорка
Какая-то неизъяснимая сила, нечто вроде земного притяжения, направляющего стрелку компаса, тянет меня сюда, как только нога моя ступает на нью-йоркский асфальт. Угол 50-й улицы и Шестой авеню. Рокфеллер-центр. Семья каменных великанов, серых, строгих, грозных. Они поднялись в небо, словно прямоугольные скалы, вырубленные из одного куска гранита скульптором-исполином. Самый главный великан - семидесятиэтажное здание компании «Ар-Си-Эй» - уходит вершиной в молочный туман. Великаны поменьше, ростом в сорок- пятьдесят этажей, теснятся вокруг старшего брата, стараясь, как он, подняться в небо, где не действует закон земельной ренты. Они утвердились здесь, в центре Манхэттена, в 30 - 40-е годы и были наречены именем тех, кто не упускает случая напомнить американцам о своем могуществе. Летом здесь, на Рокфеллер-плаза, шумит фонтан у золотого Прометея, несущего клубок огня, а зимой, когда по асфальту метет колючую поземку, раскачивает на ветру ветвями, сверкает разноцветными шарами рокфеллеровская рождественская елка.
Толкаю медную перекладину, и стеклянные лопасти вращающейся двери вносят меня в знакомую прохладу темноватого вестибюля. Здесь все, как и было, когда последний раз уезжал с берегов Гудзона: коричневый мрамор стен, ярко освещенная витрина книжного магазина, солидные бронзовые двери лифтов.
За прилавком газетного киоска, что расположился справа у бегущей ленты эскалатора, над кипами газет, пестрыми обложками журналов, стопками жевательных резинок и леденцов - знакомая фигура хозяина и бессменного работника торговой точки. В светло-голубом холщовом пиджаке он возвышается как символ прочности и стабильности этого мира.
- Добрый день. Как ваши дела? - он встречает меня как старого знакомого, с которым виделся только вчера. Не спрашивая, достает «Нью-Йорк пост», журнал «Нэйшн» и дает вприда-чу мятные леденцы «пеперминт» - те самые, что я всегда брал.
И только после этого интересуется:
- Что-то вас не видно было.
Говорю, что был дома, в Москве, что прошло несколько лет с тех пор, как последний раз покупал здесь, в Рокфеллер-центре, газеты и журналы.
- Несколько лет? - удивляется киоскер. Он качает головой то ли недоверчиво, то ли сокрушенно. И я замечаю, сколько морщин прибавилось на его худощавом лице, как побелели виски.
- Как поживает Джордж? - интересуюсь я судьбой общих знакомых.
- Все в порядке, колдует за своей стойкой.
- А Пит?
- Тоже молодцом, чистит ботинки быстрее, чем электрическая машина.
- Луи жив-здоров?
По невозмутимому лицу киоскера пробегает тень.
- Плохо с Луи, плохо... Ушел Луи...
Он говорит: «Луи хэз ган», что может значить и «ушел», и «скончался». Что же стряслось с лифтером Луи, милейшим Луи, который принципиально отказывался нервничать и всегда насвистывал свою легкомысленную «Санта-Лючию»?
Я не могу разобрать слов киоскера. Поток ринувшихся к эскалатору клерков разъединяет нас. Смотрю на часы - ровно двенадцать, время ленча. Служивый народ со всех тридцати девяти этажей устремился в рестораны самообслуживания, закусочные, к металлическим полкам с цветастой и не слишком вкусной снедью, к автоматам, выбрасывающим баночки с супом и стаканчики кофе, а кто и в бар, к Джорджу, подкрепиться бодрящим коктейлем «драй мартини».
Рокфеллер-центр - это целый город, город в городе, с многотысячным населением банковских служащих, журналистов, клерков, юристов, секретарш, телетайпистов, торговцев, поваров, официантов, уборщиков мусора, лифтеров. Как во всяком американском городе, есть здесь «топдогс» - «собаки на вершине», как называют американцы тех, кто вскарабкался на верхние ступени имущественной лестницы, и «андердогс» - те, кто составляет основание социальной пирамиды. Где-то на заоблачной высоте семидесятого этажа разместились апартаменты братьев Рокфеллеров, пониже, этаже этак на пятидесятом, за столом, уставленным телефонами, сидит мистер Доу, президент химической компании «Доу кемикл», той самой, что выпускает напалм. Бывают дни, когда он чувствует себя неуютно: у подъезда, выходящего на 51-ю улицу, нередко шумят демонстранты, кричат, пытаются прорваться к фабрикантам смерти.
Скажем сразу, у Рокфеллеров в гостях я не бывал. Не приглашал меня в свой офис и мистер Доу. Но друзей и знакомых в здании «Ассошиэйтед пресс» у меня немало. Они обитают на этажах от пятого до минус первого - подземного. Последний я изучил досконально. Не раз бродил по этому лабиринту среди стеклянных стен магазинов, магазинчиков, демонстрационных залов, ресторанов, с любопытством приглядываясь к его декорациям и обитателям.

В демонстрационном зале выставлены новые модели автомашин
Вот священнодействует над чьей-то шевелюрой похожий на маэстро парикмахер. Зал, в котором он дирижирует расческой и ножницами, не просто парикмахерская. Стены помещения увешаны подлинниками картин - от старых мастеров до современных живописцев, запечатлевших древнее, благородное искусство выщипывания, сечения и укладки волос. Сиди себе в кресле, стригись, брейся и одновременно расти в культурном отношении, разглядывая полотна. Остроумно, ничего не скажешь. Некоторое неудобство, правда, испытываешь потом, когда встаешь из кресла и произносишь самую ходовую фразу иностранца в Америке: «Хау мач?» - «Сколько стоит?» Плата за услуги здесь раз в пять выше, чем в обычной парикмахерской.
Неподалеку - другое любопытное заведение. Порхают в клетках цветастые попугайчики, зеленые черепашки плавают в аквариуме, в загоне среди стружек возятся кудлатые щенки. Это «пет шоп» - зоомагазин. Американец любит животных, особенно собак. Где-то я прочитал, что в Нью-Йорке на восемь миллионов жителей приходится два миллиона собак. Когда видишь пожилую даму, прогуливающую собачонку в красной вязаной «безрукавке» и резиновых галошах на лапах, тебе кажется, что в этом огромном, разобщающем людей городе пудель или скотч-терьер заменяет порой человеку так недостающего ему верного друга, а может быть, разъехавшихся во все стороны детей.
- Хай, бой (Привет, парень (англ.).,- )слышишь ты вдруг над головой чей-то скрипучий голос. Смотришь туда, откуда раздались звуки. Под потолком сидит на палке черная птица с большим оранжевым носом. Сидит и, наклонив на бок голову, словно ожидая ответа на приветствие, поглядывает на тебя умным, все понимающим глазом.
- Бёрдс кен нот спик (Птицы не могут говорить (англ.)) ,- говоришь ты удивленно.
- Бёрдс кен спик! Бёрдс кен спик! (Птицы могут говорить (англ.).) - кричит мудрая птица и аж трясется на своей перекладине от ярости.
В магазине игрушек большой выбор ярко раскрашенных автомобильчиков, самолетов, паровозиков, всевозможной бегущей, трещащей, сверкающей мелочи. Есть здесь игрушки и посерьезнее- темно-зеленые пластмассовые каски, черные автоматы, серебристые финки - совсем как настоящие. Почти все это богатство прибыло из-за океана. Даже на памятных сувенирах - бронзовых моделях небоскреба «Эмпайр» и статуи Свободы - нетрудно найти клеймо: «Сделано в Японии».
- Настоятельно рекомендую купить детям вот эту забавную штучку,- говорит продавец.- Называется она «Сейф Дракулы».
Черный ящичек с прорезью для монет оживает, когда подносишь к щели дайм (Дайм - пятицентовая монета.) или никел (Никел - десятицентовая монета.). Внутри копилки начинает что-то верещать, поскрипывать, позвякивать. Внезапно щелкает крышка, из сейфа выскакивает зеленая скрюченная рука и, схватив монету, резко вдергивает ее внутрь черного куба. Символическая штуковина!
Вы идете дальше по залитому электричеством подземному коридору и оказываетесь у входа в еще одно достойное внимания заведение. За стеклянной стеной на высоких подставках восседают джентльмены в серых деловых костюмах. У ног их, сверкая щетками и бархотками, трудятся похожие на джиннов курчавые негры в красных халатах. Чистильщики сапог - черные, клиенты - белые. За барьерчиком кассы - хозяин мастерской. Сухонький, седой старичок. Он зорко следит за каждым движением негров: не снижают ли они темпа работы, не пытаются ли утаить лишние центы чаевых. Перед вами простейшая ячейка капитализма - схематическая модель американского общества.
Приехав в Нью-Йорк, на следующий же день я иду в Рокфеллер-центр. Признаюсь, не только дела влекут меня сюда. С этим серым небоскребом и его обитателями меня связывают сентиментальные чувства. Но что поделаешь? Здесь, в одном из залов на пятом этаже, работают мои друзья-тассовцы, неутомимые труженики советской журналистики. Здесь, среди неумолкающих телетайпов, провел немало дней и ночей и я, переживая те волнующие часы, когда перед тобой открывается неведомая, несмотря на все прочитанные книги, жизнь.
Сколько интересных людей встретилось здесь, разных людей - друзей, доброжелателей, нейтралов, врагов. О каждом из них можно было бы написать книгу.
Помню, как в наш офис вошел очень высокий, очень худой, стеснительно сутулящийся человек. Чернявый, с усиками под горбатым носом, он был похож на грузина. Вскочил из-за своего стола корреспондент ТАСС Эмилио Дельгадо. Подбежал к вошедшему, стал трясти его руку. Это было довольно смешное зрелище. Они стояли вплотную друг к другу, невысокий кругленький Эмилио и долговязый худющий гость, и радостно похлопывали друг друга по спинам.
- Старые друзья,- сказал Гарри.- Милтон, комиссар бригады Линкольна, воевал в Испании, а Эмилио в это же время редактировал в Мадриде «Мундо Обреро».
Как жаль, что я не познакомился с ними поближе, не расспросил поподробнее.
- Шайн! Шайн! (Чищу! Чищу! (Англ.))
Два раза в неделю этот клич врывался в зал, наполненный стуком работающих телетайпов. Вслед за голосом появлялись широкая лысина и сутулые плечи в линялой рубахе цвета хаки. В дверях, оглядывая всех ищущим взором, стоял пожилой человек с ящиком чистильщика сапог в руке. То ли годы, то ли профессия, но этот и без того невысокий человек ходил, согнувшись до земли, почти касаясь руками пола. Корреспондент продолжает просматривать газеты, а старик, опустившись на колени, работает над его ботинками - наводит глянец щеткой, бархоткой и напоследок своими черными, как голенище сапога, ладонями. Получит причитающиеся деньги, скажет свое «тсенкс» - «спасибо» и уходит. Другого слова я от него не слышал.
Говорили, что лет тридцать назад этот человек был торговцем. Больших капиталов не имел, но жил неплохо, до тех пор пока не заболела жена. Болезнь была затяжной и тяжелой. На докторов и лекарства быстро ушли все накопления. Потом продали все, что было. Затем пришлось закрыть лавочку. Жена умерла. Но оправиться человек так и не смог. С тех пор он чистит ботинки клеркам, юристам, журналистам, бизнесменам - всем, кто населяет кабинеты и залы Рокфеллер-центра. За предоставленное ему «жизненное пространство» хозяева небоскребов брали у чистильщика сапог по десять центов с каждого заработанного четвертака. Говорят, что недавно Рокфеллер расщедрился - решил не изымать у старика этих испачканных гуталином даймов.
Старик-чистильщик не смешивал бизнес с политикой. С одинаковым старанием драил он башмаки корреспонденту-ультра из «Ассошиэйтед пресс» и коммунисту из отделения ТАСС, придавал глянец ботинкам напалмового короля и лифтера.
Другой же знакомый все время норовил дать подножку.
- Здравствуй, товарич! - приветствовал он меня, улыбаясь и вкладывая в последнее слово как можно больше ядовитой иронии.- Неплохо мы прижали вас с эмбарго?
- Читали газеты? - говорил он, встретившись со мной в лифте в следующий раз.- Пентагон не бросает слов на ветер. Вот построим новые ракеты, тогда-то вас и прижмем.
Седоватый, высокий, очень прямой, в светлых глазах его неизменно светился странный огонек любопытства и веселой враждебности, он не упускал случая, чтобы завязать со мной словесную перепалку.
- Что вы удивляетесь? - сказал знакомый из «Ассошиэйтед пресс», которого я спросил об этом человеке.- Гарольд Бауэр - нацист, пилот из гитлеровского «люфтваффе». В конце войны был сбит, попал в плен, а затем перебрался в Соединенные Штаты. Теперь он гражданин США, «суперпатриот», каких поискать...
Да, много по-разному любопытных людей повстречалось мне на этажах Рокфеллер-центра, с пятого по минус первый. Что ни человек - то история, что ни знакомый - то характерная черточка Америки.
Но что же все-таки случилось с Луи?
Я был знаком с ним не один день и не один месяц. Каждое утро, приходя на работу, встречал его в темно-коричневой, отделанной под орех кабине лифта.
-Гуд монинг, сэр... гуд монинг,- отвечал он на приветствия, играючи нажимая кнопки на пульте. Он нажимал кнопки, не ожидая, пока вошедший назовет этаж,- почти всех своих пассажиров он знал в лицо.
Ему было лет сорок - сорок пять, не больше. Темноволосый, с мягкими черными глазами, неизменной улыбкой в уголках губ, Луи так и светился легким нравом, унаследованным от своих итальянских предков.
- Гоу ап! - весело командовал он сам себе.
Массивная медная дверь зашторивала кабину, и мы трогались в путь.
Луи стоял в уголке у откидного стульчика. Тщательно выбритый, аккуратно причесанный, в своем ладно сидящем мундире цвета хаки, он выглядел довольно элегантно. Улыбаясь каким-то приятным мыслям, он мурлыкал себе под нос: «Сан-та Лю-чи-ия, Сан-та-а Лю-чи-я»,- и блестящим носком башмака отбивал такт.
Я совершил уже не одну сотню рейсов на удобном рокфеллеровском лифте, бывал здесь практически каждый день, но наше знакомство не шло дальше утреннего обмена приветствиями и прощального «гуд найт» вечером.
Ледок официальности рухнул неожиданно. Однажды, возвращаясь с обеда, я заметил, что Луи чем-то испачкался - на лбу его виднелось пятно, похожее на отпечаток измазанных в угле пальцев.
- Луи,- сказал я,- вы чем-то измаза...
Я не закончил фразы, когда почувствовал, что совершил какую-то страшную, обидную для собеседника оплошность. Луи покраснел, смутился, растерялся и я.
- Геня,- с мягким укором сказал Гарри, когда мы уже шли по коридору,- сегодня католический праздник... В этот день все католики кладут на лоб символический мазок пепла.
Непростительная рассеянность! Только теперь я стал замечать, что сегодня чуть ли не у каждого третьего встречного на лбу такое же темное пятнышко.
Моя неумышленная бестактность имела неожиданный результат. Когда я, чувствуя себя крайне неловко, снова вошел в кабину лифта, Луи улыбнулся открыто, дружески. И на прощание кроме своего обычного «гуд найт» добавил звучащее у американцев как доброе похлопывание по плечу: «Драйв кэефул-ли» («Ведите машину осторожно!» (Англ.)).
Теперь, встречаясь в кабине лифта, особенно если не мешали попутчики, мы обсуждали с Луи житейские проблемы. Однажды, когда речь зашла о детях, он вынул из внутреннего кармана френча кошелек и, раскрыв, подал мне его. Внутри кошелька, за прозрачной перепонкой, находилась фотокарточка. Цветной любительский снимок изображал двух девушек. Чернявые, хорошенькие, с улыбчивыми глазами Луи.
- Дочки,- сказал Луи с гордостью.- Пэт - шестнадцать лет, Сильвии - четырнадцать. Умницы, добрые девочки. Мне повезло - у меня такая хорошая семья. Только вот этого не хватает.
И он потер указательным пальцем о большой, как бы пробуя на ощупь щепотку соли,- известный жест, которым, наверное, повсюду обозначают одно и то же - деньги.
- А сколько их нужно! Джезус крайст! Пэт мечтает поступить в Хантер-колледж - ищи папа тысячу долларов! Жена заболела, нужна операция - во сколько сотен она обойдется! А ежемесячные платежи за квартиру, за мебель, купленную в рассрочку?..
И он еще раз помянул Иисуса Христа.
С некоторых пор я стал замечать, что Луи постоянно выглядит усталым. Глаза его потускнели, лицо серое, помятое. Он прикрывает ладонью раскрытый в зевке рот и смущенно оглядывается на входящих в лифт.
- Гуд монинг, сэр... гуд монинг. Поспать бы сейчас,- мечтательно говорит он, высаживая меня на пятом этаже.
- Что с вами, Луи, уж не заболели ли?
- Что вы, сэр! Не говорите такого. Я чувствую себя о'кэй. Просто мне снова повезло.
И он рассказал, что уже месяц как работает официантом у себя в Фар-Рокавее. Каждый день с девяти вечера до двенадцати ночи, а по субботам целый день.
- Понимаете,- оживился Луи,- у меня две работы! Разве это плохо? У других нет ни одной, сидят на пособии, а у меня две! Нет, в Америке не пропадешь! Если, конечно, ты не лентяй, не бездельник.
Как и во всех небоскребах, в здании «Ассошиэйтед пресс» фактически нет лестниц. Попасть на нужный этаж или спуститься вниз можно только лифтом. Восемь кабин постоянно курсируют между этажами, обеспечивая транспортом поток работников и посетителей. Одной из кабин управлял Луи, в соседней обычно работал Чарли, довольно молодой блондин, очень полный и крайне раздражительный. Он не нажимал кнопки, а ударял по ним костяшками сжатой в кулак руки. Дверь его лифта все время норовила сбить тебя с ног, а кабина прыгала вверх, как будто под ногами срабатывал реактивный ускоритель. Как-то Чарли исчез. Уже недели две как его заменял Берни, красивый, стройный негр с мельчайшим каракулем завитушек на круглой голове.
- Что с Чарли? - спросил я у Луи.
Пригород Нью-Йорка.
- Опять в психиатрической больнице,- сказал Луи.- Чарли очень нервный человек. Не умеет принимать жизнь легко. Все думает, беспокоится. Что будет завтра? Что - послезавтра? А разве можно в нашей жизни загадывать что-либо наперед?
И как бы демонстрируя истинно американский «легкий подход к жизни», Луи замурлыкал свою «Сайта Лючию».
Помнится, это началось то ли в июне, то ли в июле, незадолго до моего возвращения домой. Не надо было обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить, что на всех лифтеров нашего небоскреба напала какая-то хворь. Чарли снова пропал. Берни, мрачный, ссутулившийся, сидел на откидном стульчике лифта даже в присутствии пассажиров - вольность, которую раньше никто из лифтеров себе не позволял. Милейшего Лун словно подменили - куда девались его приветливость, неизменное расположение духа, доброжелательность. Смотрит отсутствующим взглядом, как будто не узнает. С трудом выдавливает из себя положенное «гуд монинг».
Я никак не мог понять, что случилось.
Тот памятный мне разговор произошел вечером, когда небоскреб обезлюдевает и затихает. Хмурый Луи спустил меня с пятого этажа в опустевший, потемневший вестибюль.
- Гуд найт, Луи,- сказал я.- Желаю вам хорошо провести уикэнд.
- Гуд найт, сэр,- ответил суховато Луи.
- Что с вами случилось, Луи? - спросил я, не удержавшись.
- Ничего, сэр, все в порядке,- сказал Луи.
Он смотрел вниз, себе под ноги, а потом - я уловил этот быстрый, настороженный взгляд - стрельнул глазами куда-то в сторону. Я посмотрел туда, куда скользнул взгляд Луи. На противоположной стороне холла находились такие же медные двери лифтов, правда, на этот раз их не было видно. Недели две назад там появилась какая-то фанерная пристройка вроде домика, Днем внутри нее слышались голоса, доносились удары молота, завывала дрель.
- Что здесь делают? - спросил я Луи.
- Отомейшн,- сказал Луи угрюмо.- Зе coy коллд прогресс (Автоматизация, так называемый прогресс (англ.).). Переводят на автоматические лифты, сначала ту сторону, потом нашу. Скоро мы здесь не будем нужны.
Луи словно прорвало.
- Отомейшн,- говорит он, вкладывая в это шипящее слово всю свою злость.- Повсюду автоматизация. Это плохо, очень плохо... Поверьте мне, эти автоматические лифты не дают хорошего сервиса. Но они отнимают работу...
Он говорил почему-то шепотом, громким горячим шепотом Он вцепился в обшлага моего пиджака и яростно тряс меня за грудки.
В кабине надрывался зуммер, лифт вызывали наверх,
- Вскоре всюду будут одни машины,- взвизгнул Луи, отпрянув от меня.- Одни машины, поверьте мне... Машины съедят людей, а люди, мы с вами, все люди, будут стоять на углу и просить милостыню.
Он вдруг заметил раздраженный зуммер. И, ударив кулаком по пульту с кнопками, крикнул в закрывающуюся щель кабины:
- Просить милостыню... Поверьте мне.
«Мне... мне... мне»,- подхватило эхо, разбегаясь по пустым коридорам Рокфеллер-центра.
На следующее утро Луи стоял на боевом посту в углу своей кабины, выбритый, отутюженный, как ни в чем не бывало. За фанерной загородкой продолжали стучать молотки, взвывая, вгрызалась во что-то дрель, Через неделю я распрощался с Нью-Йорком.
...И вот опять Рокфеллер-центр, седой киоскер и его непонятные слова: «Луи хэз гаи». Хотя, если разобраться, непонятного в них ничего нет. Произошло то, что и должно было случиться. Да, Луи ушел. Там, где когда-то он встречал нас поутру, у солидных медных дверей лифтов, врезанная в мрамор простенка красовалась бронзовая доска со светящимися треугольниками. Это был пульт автомата, того, что заменил и Луи, и Чарли, и Берни, и всех лифтеров. Треугольники белые и зеленые. Они вспыхивают, ползут вверх, вниз, гаснут, снова зажигаются, словно доска живая, словно она подмигивает и вот-вот скажет голосом Луи: «Гуд афтенунг, сэр!»
Вечером, закончив дела, покидаю почти родной мне пятый этаж. Лифт приходит моментально. Дверь расшторивается, в кабине, знакомой, отделанной под орех,- никого. Нажимаю кнопку и еду вниз. Нет, напрасно наговаривал Луи, автоматический сервис на высоте. Где он сейчас, мой старый знакомый? Может быть, нашел другую работу? Может быть, сидит на пособии. Кто знает!
Многих из моих старых друзей и знакомых не встретил я на этот раз в бетонном небоскребе на углу 50-й улицы и Шестой авеню. Ни на пятом этаже, ни на четвертом, ни в подземелье. Одни оставили это место, другие - этот мир. Тихо и как-то незаметно ушел из жизни экспансивный республиканец Эмилио Дельгадо. Никогда больше не увидишь за пишущей машинкой, там, слева у окна, рядом с телетайпами, Гарри Фримена. Всегда такого деятельного, такого приветливого, в белоснежной сорочке с распахнутым воротом и сдвинутым набок галстуком, с неизменной сигаретой в углу рта. Не услышишь его веселого приветствия, не получишь доброго товарищеского совета.
«Прогрессивный американский публицист» - как общо и сухо это официальное определение, сопровождавшее его статьи, публиковавшиеся в газетах Советского Союза, Чехословакии, Венгрии, Болгарии (за границей его знали много лучше, чем дома). Как хочется рассказать о его сложной судьбе человека, порвавшего со своим классом, отвергнутого родными и знакомыми, пережившего духовные пытки маккартистских комиссий, тяжкие интеллектуальные муки познания истины на крутых поворотах истории. Трудное это дело - любить страну, порядки которой не приемлешь. Он так старался помочь нам, советским людям, понять противоречивую картину жизни американского народа и так радовался, когда мы убеждались, что и в Америке не без хороших, честных, думающих людей. И если, вернувшись домой, я смотрю на эту далекую страну не слепыми глазами холодной отчужденности, то это в немалой степени благодаря ему, благодаря его ненавязчивой доброжелательности.
...В вестибюле темно и безлюдно, как в ту памятную ночь, Приглушены светильники под потолком, черна витрина книжного магазина, пуст прилавок газетного киоска. По вечерам небоскреб обезлюдевает, как океанский корабль, оставленный i темном море и командой, и пассажирами. Клерки, юристы, бак ковские служащие, журналисты, секретарши, телетайписты-все они не засиживаются на работе. В Америке это не считаете за доблесть.
Мимо замолкшего до утра эскалатора спускаюсь по ступень кам в подземные анфилады. Здесь тоже темновато, безлюдно, Померкшее окно игрушечного магазина. Темнота за стеклянное стеной парикмахерской. Пустота в витрине зоомагазина... И ни одного живого человека, ни души.
Я иду по звонкому кафелю нескончаемого лабиринта, и шаги мои громко, чересчур громко раздаются в тишине. Кажется, кто-то шагает навстречу. Или, может быть, некто беззвучный и бес телесный ждет меня за поворотом. А что если вдруг из-за угла выедет на колесиках большая железная бочка и скажет знакомым нутряным голосом: «Разве ты не узнаешь меня? Я старый Джо, уборщик мусора». И пульт у лифтов подмигнет зелены! глазом: «Гуд найт, сэр!»
Может, и правда машины съели людей? Может быть, они вы теснили всех до единого - клерков, юристов, сапожников, банковских служащих, официантов? И даже мудрая говорящая птица при ближайшем рассмотрении окажется заводной японской игрушкой. А за столом, уставленным телефонами, где восседал мистер Доу, по-хозяйски разместился огромный «сейф Дракулы». Он все время щелкает крышкой, и зеленая рука мертвей хватает и хватает падающие потоком доллары.
...Я понял, что постыдно заблудился. Попытка пройти в метро подземными переходами окончилась неудачно. Надо было выбираться наверх. Холодные ступени лестницы вывели меня большой гулкий зал. Тяжелые квадратные колонны, желтоваты цвет потолков и стен. Я сразу узнал его. По небу среди кудрявы туч летели аэропланы, тупорылые, с эллипсовидными крыльям! А пониже, на склонах гор, трудились люди: кто пахал, кто строил, кто валил лес. Обнаженный по пояс силач тащил огромно сучковатое бревно. Он подошел к краю пропасти, а с той стороны расщелины протягивал ему руку помощи дядюшка Сэм, как положено, в цилиндре и при козлиной бородке.
Фрески, украшавшие стены и потолок зала, можно было бы принять за карикатуру, за насмешку над парадным американизмом, если бы они были не здесь, не в главном небоскребе Рокфеллер-центра, в здании «Ар-Си-Эй».
Я стоял, рассматривая детали не раз виденной картины, заново пораженный ее наивной апологетикой, тем, как старательно и прямолинейно неизвестный живописец выполнил социальный заказ.
И в сознании моем вдруг зазвучал явственно, со всеми интонациями тот разговор, будто кто-то включил лежавшую на полочках памяти магнитофонную пленку:
- А знаешь, что здесь было раньше? - услышал я знакомый голос.
- Что же, Луи? - спросил я тогда.
- Здесь был Ленин, лидер большевиков,- сказал Луи.- Он был нарисован в центре картины. Он стоял с поднятой рукой, а за ним шли люди - белые, черные, желтые, краснокожие... Эту историю рассказал мне один журналист из красных. Если хотите, я расскажу ее вам.
- Расскажи еще раз, Луи,- мысленно попросил я.
- Это было году в тридцатом - тридцать третьем. Небоскреб был только что построен. И Рокфеллер пригласил расписать фойе мексиканца Диего... Диего...
- Диего Ривера?
- Да, Диего Ривера.
И вот картина готова. Убирают леса. Приезжает Рокфеллер. Он поднимает голову и чуть не падает в обморок.
«Это кто такой?» - спрашивает Рокфеллер, показывая на Ленина.
«Ленин»,- говорит художник.
«Убрать, стереть, замазать!» - кричит Рокки.
- И что же было потом?
- Потом, говорят, картину уничтожили. Диего отказался ее переписывать. Ему заплатили, как было положено по договору, двадцать семь тысяч долларов, а фрески соскоблили со стен. Да, картину уничтожили. А говорят, такая была картина! Тысяч сто сейчас бы стоила, не меньше!
...Вращающаяся дверь выталкивает меня на асфальт, к подножию бетонных стен. Вот и знакомая медная полоска, врезанная в тротуар, она тускло поблескивает. Днем, когда сюда заглядывает солнце, на полоске можно разобрать литые буквочки: «Собственность Нью-Йоркского университета». Но университет тут всего лишь прикрытие, вывеска. Медная полоска означает границу владений Рокфеллеров. Им принадлежит эта земля, закованная в асфальт, эти тяжеловесные небоскребы, а также нефтеперегонные заводы на той стороне Гудзона, гора в штате Арканзас, тринадцать поместий в Штатах и Венесуэле и многое-многое другое.
Узкий проезд залит серой тишиной. В густом молоке тонут нависшие над миром бетонные плоскости. Жарко, душно. Воздух настолько перенасыщен влагой, что она выпадает тебе на лицо, на руки крупными теплыми каплями. Где-то вдали, в разрезе улицы, там, где перекрещиваются 50-я и Бродвей, пляшет, паясничает огненная реклама. Оттуда доносятся гудки автомашин, голоса. Здесь чинно, тихо, ни души. И с удвоенной силой тебя охватывает ощущение, что город в городе опустел, вымер, обезлюдел.
А ведь когда-нибудь американцы и впрямь покинут эти теснящиеся скалы, это фантастическое нагромождение камня, стекла и стали, вылепленное по законам того общества, где одним принадлежат небоскребы, заводы, банки, железные дороги, а другим - только собственные руки. В один прекрасный день- и это будет действительно прекрасный день! - они снимутся с якоря, сядут за рули своих автомашин и навсегда укатят в зеленые просторы Айовы, к пенистым водопадам Ниагары, в напоенные солнцем и хвойным ароматом секвойевые рощи Иеллоу-стона. А сюда, в Рокфеллер-центр, будут приезжать на экскурсии, как те путешественники, кто идут прикоснуться к древним пирамидам.
И стоя вот здесь, у подножия каменных громад, задирая голову, чтобы рассмотреть уходящие в тучи вершины, будут думать; «Да, это сила! Это вещь! Но жить? Нет, жить здесь нельзя!»
|
ПОИСК:
|
© USA-HISTORY.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'