
Глава вторая. ВИРДЖИНЕЦ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и наделены создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых - право на жизнь, свободу и стремление к счастью.
То, что практично, зачастую должно преобладать над чистой теорией.
Судьба словно с самого начала уготовила Джефферсону роль антипода Гамильтона - настолько иными были его происхождение и вся атмосфера, окружавшая его с первых дней жизни. В отличие от безродного иммигранта из Вест - Индии, Джефферсона взрастила прародительница американских колоний - Вирджиния, которую он всю жизнь называл "моя страна" и в которую врос по крайней мере на четыре колена своих предков.
Джефферсоны считали себя выходцами из Уэльса (Шотландия), однако достоверные сведения сохранились лишь о прадеде будущего президента - землевладельце средней руки, который умер уже богатым вирджинским фермером. Сын его Томас, судя по тому, что держал скаковую кобылу и числился капитаном ополчения, был уже настоящим джентри - сельским джентльменом. Питер Джефферсон, отец великого вирджинца, по словам сына, не получил серьезного образования, но, "обладая природным умом, трезвым рассудком и жаждой знаний, много читал и развивал себя". Что было по тем временам гораздо важнее, Питер был человеком цепким, предприимчивым и честолюбивым. Он неуклонно расширял свои владения и упрямо продвигался по ступенькам местной иерархической лестницы, ни через одну не перескакивая, но и не оступаясь: землемер, судья, а затем и шериф графства Гучлэнд. В 1739 году он взял в жены 19-летнюю Джейн, Рэндольф из старейшего и самого родовитого семейного клана колонии. Недаром прадеда и прабабку Джейн называли Адамом и Евой Вирджинии. Рэндольфы, гораздо более богатые и образованные, чем Джефферсоны, состояли в родстве почти со всеми знатными семьями Вирджинии. Скоро Питер стал первым гражданином своего графства - полковником, командиром ополчения и берджессом - членом нижней палаты ассамблеи колонии. 13 апреля 1743г. в Шэдуэле - одном из имений Питера на западной границе Вирджинии у него родился первый сын, названный в честь деда Томасом.
Первое оставшееся в памяти воспоминание о мире трехлетнего Томаса - черный раб, придерживающий его на подушках в седле. Семья переезжала в Такахое - имение его покойного дяди, Уильяма Рэндольфа, назначившего Питера опекуном своих детей. Там, в просторном особняке под зелеными кронами, среди любящих родных и веселой ватаги детей он и провел свое раннее детство. Воспитанием занимался домашний учитель, но отец, высоко ценивший то, чего не получил сам, мечтал о блестящем образовании для своего сына. Поэтому, как только семья вернулась в Шэдуэл, Томаса отдали в классическую школу преподобного Уильяма Дугласа, где он постиг азы латыни и греческого, заложив необходимый фундамент настоящего образования. Если бы пришлось выбирать между классическим образованием, которое обеспечил отец, и состоянием, которое он оставил, с благодарностью вспоминал на склоне лет Джефферсон, он бы выбрал первое. Но выбирать не пришлось: в 1757 году Питер умер, оставив ему большую часть нешуточного хозяйства: около 7 тысяч акров земли, более 60 рабов, много скота и солидное недвижимое имущество в графстве Олбемал. Но главным наследием Питера Джефферсона, доставшимся его сыну, которого американские биографы-популяризаторы до сих пор любят изображать этаким простым пионером-фермером с мотыгой в руках, было надежное место в кругу правящего класса колонии - вирджинских плантаторов. Оставалось лишь дополнить богатство образованием, и тогда Томас мог рассчитывать на все лавры, какими только могла его увенчать Вирджиния.
Два года Томас посещает частную школу весьма образованного священника Дж. Маури, где изучает математику, историю и литературу, совершенствует свои познания в языках. Не меньшее значение в воспитании отпрысков первых семей придавалось и другим достойным занятиям. "Каждый молодой джентльмен, - писал один из летописцев старой Вирджинии, - должен быть знаком с искусством танца, бокса, игры на дудке, карточной игры и владения шпагой". К картам, боксу и шпаге Джефферсон так и не пристрастился, но зато помимо дудки освоил еще и скрипку. Судя по скудным сведениям о его школьных годах, учился он очень прилежно и увлеченно. Однако завершающей школой манер и образования, приличествующих джентльмену, считалось столичное общество Вильямсберга и тамошний колледж Уильяма и Мэри, куда волей опекунов и был направлен молодой Джефферсон.
Крохотный Вильямсберг, насчитывавший всего полторы тысячи коренных обитателей, был тем не менее главным городом крупнейшей британской колонии, старательно и комично воспроизводившим в миниатюре атрибуты столицы метрополии. Вдоль главной улицы герцога Глочестерского длиной в одну милю располагались Капитолий, где заседали ассамблея и суд, дворец губернатора, главная церковь, театр, таверна Ралея и, наконец, колледж Уильяма и Мэри. Два раза в год - весной и осенью - вирджинские аристократы во главе с плантаторами соседних прибрежных районов покидали имения и приезжали на сессию ассамблеи и суда, где, не торопясь, по-семейному вершили немногочисленные государственные дела.
"Накал" культурной и интеллектуальной жизни здесь, на задворках Британской империи, был прискорбно низок по европейским стандартам. Время ползло по-улиточьи медленно, почти не принося перемен, и даже в "светский сезон" верхушка вирджинского общества пребывала в плену у тягучей, монотонной, но не лишенной приятности тирании сытных званых обедов, охоты, скачек и простого безделья. Страницы дневника Уильяма Бирда, главы еще одной старейшей династии колоний, сохранили для нас подлинную картину типичного образа жизни богатого вирджинского плантатора середины XVIII века. "Второе января. Встал около шести, читал на древнееврейском и греческом. Молился и пил чай. Танцевал. Погода ясная и холодная, ветер северо-западный. Мои люди перевозили гравий. Погашал счета и просматривал документы до обеда, за которым съел пирог с олениной. После обеда играли в бильярд, а затем немного прогулялись. Вечером пришел шлюп за гончарным кругом. Молился". И так день за днем. Впрочем, "сезон" вносил некоторое оживление. "Первое июня. Встал около пяти, читал на древнееврейском и греческом. Молился и пил кофе. Погода очень жаркая, ветер юго-западный. До десяти писал по-английски и погашал счета, затем пошел в Капитолий и сидел там до двух. Обедал с губернатором и ел молодого гуся. После обеда пошел к леди Рэндольф и пил там чай. Затем прогулялись и зашли к комиссару, с которым сидел до девяти; потом пошел домой и молился".
Бирд был одним из самых образованных и светских людей Вирджинии, что же говорить об остальных - о тех, что не читали на древнееврейском и греческом? Остальные представители "класса богатых", как пишет другой современник и земляк Джефферсона Дж. Такер, "искали отдохновенья от пустоты безделья не только в дозволительных радостях охоты и скачек, но и в унизительных удовольствиях петушиных боев, азартных игр и пьянства. Литература пребывала в запустении и культивировалась немногими, получившими образование в Англии, скорее как некое достижение или знак отличия, нежели ради ощутимых благ, которые она может предоставить".
Было бы, конечно, преувеличением изображать всех почтенных вирджинцев бездельниками; хозяйство, если им заниматься всерьез, требовало немало хлопот, но и они расширяли интеллектуальный кругозор не больше, чем традиционные развлечения. "Что за мудрость можно извлечь из скачек или петушиных боев? - иронически вопрошал анонимный вирджинский сатирик 60-х годов XVIII века. - Какой смысл - из гадания на конских волосах и кошачьих кишках? Какие знания - из зимних вечеров за картами или долгих летних разговоров о скоте, лошадях и свиньях? Смените предмет беседы, и вы легко убедите эсквайра в том, что дождь вызывается мочеиспусканием Юпитера через сито, что радуга - смычок, звезды - музыкальные ноты, а метеоры - не что иное, как сморкание лунного человека...".
Естественный вопрос - как на такой почве мог произрасти энциклопедический ум Джефферсона? По-видимому, здесь произошла реакция инстинктивного отторжения интеллекта даровитого и волевого человека от вялой рутины провинциальной жизни. Джефферсон впоследствии сам удивлялся, как смог в "обществе картежников, охотников на лис и любителей скачек" удержаться на стезе познания. Блестящие умственные способности в нем редким образом сочетались с удивительным трудолюбием, страстью к порядку и предельно рациональной организацией всего образа жизни. Оценивая разнообразнейшие познания и достижения Джефферсона, можно только повторить его собственные слова: "Просто удивительно, как много можно сделать, если все время делать что-нибудь". Вся его долгая и многогранная, наполненная трудами жизнь есть триумф неутомимого, дисциплинированного интеллекта, подкрепленного редкостным здоровьем.
Все это проявилось уже в студенческие годы Джефферсона. "Привычка к труду формируется, пока мы молоды, а если нет - то уже никогда позже, - наставлял он много лет спустя свою дочь Марту, - так что вся наша жизнь зависит от правильного использования скоротечного периода юности". Трудно точно сказать, когда он стал таким мудрым, но, видимо, в весьма юном возрасте. "Еще в молодости, - вспоминал его однокашник по колледжу, - он разработал систему, а то и план на всю жизнь, от которого ни безотлагательные дела, ни соблазны удовольствий не могли оторвать или отвратить его". Образ юного Томаса, уткнувшегося в греческую грамматику на перемене среди резвящихся товарищей, стал хрестоматийным, но это не значит, что он чурался сверстников. И у него были мальчишеские шалости и порывы, порой он скучал в Шэдуэле, где "сегодня флиртуешь с хорошенькой девчонкой, а завтра бродишь уныло один"; была и первая несчастная любовь к 16-летней Ребекке Бэруэлл. Но уже тогда увлечениям, свойственным возрасту, отводилось второе место: Томас удивительно быстро приобщался к серьезному миру взрослых людей и представлений.
К 20 годам он был уже достаточно интересным и образованным человеком, чтобы войти в кружок самых просвещенных людей Вирджинии: профессора колледжа Уильяма Смолла, одного из ведущих юристов колонии Джорджа Уайта и самого королевского губернатора Фрэнсиса Фоке. Способный педагог, Смолл, впоследствии друг Джеймса Уатта, открыл для юноши захватывающий мир науки. От него, вспоминал Джефферсон, "я впервые получил представление о развитии науки и системе явлений, нас окружающих". Эрудит-самоучка Уайт сочетал глубокое знание британского и римского права со страстной привязанностью к древним языкам и литературе, чем покорил Джефферсона на всю жизнь. Талантливый администратор Фоке был "первым джентльменом" Вирджинии, человеком изысканных манер, образцового вкуса и либеральных воззрений. С Джефферсоном его сблизила общая любовь к музыке и совместные музицирования в любительском оркестре. Все трое часто приглашали юношу на дружеские обеды, где он, по его собственным словам, "слышал больше здравых и рациональных суждений и философских разговоров, чем во всей остальной своей жизни. Это были подлинно аттические беседы".
Этот триумвират оказал глубокое влияние на молодого Джефферсона, долго служил ему эталоном свободомыслия и джентльменского поведения. "Столкнувшись с соблазном или трудностями, - рассказывал он на склоне лет, - я спрашивал себя: а как доктор Смолл, м-р Уайт или Пейтон Рэндольф поступили бы в этой ситуации? Какая линия поведения принесла бы мне их одобрение?".
После окончания колледжа в 1767 году Джефферсон под руководством Уайта стал готовить себя к юридической практике - не идеальное, но наиболее приемлемое занятие из тех, которые могла предложить тогдашняя Вирджиния. Торгово-предпринимательской деятельности "аграрное царство" не знало, политика считалась естественным приложением к основным занятиям - земледелию и юриспруденции, общественной обязанностью аристократии. Карьера же врача или священнослужителя его не привлекала совсем.
Сдать экзамен на право заниматься юридической практикой было нетрудно, но Джефферсон потратил на подготовку почти пять лет - гораздо больше, чем его коллеги. И не только от того, что не слишком спешил облачиться в судейскую мантию. Эти годы были для Джефферсона временем необычайно жадного впитывания самых разнообразных знаний. Он основательно овладел пятью языками - греческим, латынью, французским, итальянским и испанским. Сохранившиеся конспекты и записи Джефферсона раскрывают постоянно расширяющийся круг его интересов - от античной литературы и философии до ботаники, зоологии и математики. Когда несколько лет спустя один из его друзей попросил список книг для общеобразовательного чтения, Джефферсон ответил характерным наставлением, основанным на собственном опыте и до сих пор популярным среди американских студентов. "До восьми утра заниматься физикой, этикой, религией и естественным правом", - на полном серьезе советовал он, прилагая соответствующий список книг, подлежащих изучению до завтрака. С восьми до полудня он предписывал чтение по юриспруденции и политике; послеобеденное время должно отводиться для истории, а промежуток "от сумерек до сна" - беллетристике, литературной критике, риторике и ораторскому искусству.
При всей своей неизбывной жажде знаний Джефферсон вовсе не был их неразборчивым накопителем. Смолоду он отличался практическим, подчас просто утилитарным подходом ко всем жизненным явлениям: "Какая разница, сколько лет Земле - 600 или 6 тысяч?" То же самое относилось к извечным философским проблемам смерти, бессмертия и всему прочему, что он считал потусторонней схоластикой. Заметив, что размышления на подобные темы "оставили его в том же неведении, в каком и нашли", Джефферсон, по его собственным словам, "навсегда перестал читать или думать об этом и возложил свою голову на ту самую подушку невежества, которую милостивый создатель сделал для нас столь мягкой, зная, как часто нам придется почивать на ней". То был ум ясный, активный, жизнеутверждающий.
Свой человек в доме губернатора, частый гость в Капитолии, сведший знакомство со многими ведущими деятелями колонии, Джефферсон за годы учебы вплотную познакомился с действием механизма системы управления Вирджинии.
Главной особенностью общественного устройства Вирджинии был расовый состав ее населения: в 1763 году на 130 тысяч белых приходилось 100 тысяч черных рабов. Колония возникла как белое поселение английских иммигрантов, быстро растущая масса которых с годами раскалывалась на крупных землевладельцев и зависимых от них арендаторов, наемных работников, кабальных белых слуг, составлявших огромное большинство жителей Вирджинии. Низы, пополняемые в основном из вчерашней английской бедноты и вооружаемые для защиты от индейцев, служили горючим материалом колоний, источником многочисленных волнений, среди которых кровавым пятном выделялось восстание Натаниэля Бэкона 1676 года. Вирджинию ожидали смутные времена, но быстрое распространение рабовладения к концу XVII века и замена большей части белых работников черными существенно изменили политическую обстановку в Вирджинии.
Вместо своенравного белого плебса к черной работе были приставлены покорные и бесправные черные рабы. Случавшиеся иногда волнения не шли ни в какое сравнение с былыми мятежами белых и легко подавлялись, а опасность расовых столкновений только сплачивала белое население. В Вирджинии, как и в Древнем Риме, права и свободы коренных жителей были сохранены ценой закабаления рабов. Теперь свободнорожденные граждане колонии могли позволить себе даже демократию.
Белые мужчины - те, которые владели не менее чем 25 акрами обрабатываемой земли или домом в городе (таких в пору юности Джефферсона было около половины из общего числа), пользовались правом голоса, то есть раз в три года решали, кто именно из богатых землевладельцев будет заседать в ассамблее. Большую часть остальных должностных лиц назначал губернатор по представлению ассамблеи, практически никогда им не оспариваемому. В итоге какие-нибудь полсотни семей, связанные между собой родственными узами, держали в своих руках все бразды правления. Одни и те же люди заседали в приходском совете и суде графств, были берджессами и командовали ополчением, как, например, Питер Джефферсон, то есть обладали всей полнотой политической, судебной, военной и даже духовной власти. Естественность подобного разделения обязанностей между "джентльменами способностей и достатка" и теми, кого они называли "мусором", признавалась обеими сторонами.
Политическая монополия землевладельческой аристократии была не только полной, но и надежной, так как, с одной стороны, рядовые фермеры-фригольдеры удерживались в достаточном удалении от рычагов власти, а с другой - их участие в управлении путем голосования казалось им достаточно ощутимым, чтобы удерживать от восстаний против этой власти. Безусловно, этому способствовали относительная обеспеченность белого населения и широкое распространение рабовладения, возвышавшего белых вирджинцев в собственных глазах. "Сочетая в себе качества гражданина и хозяина, - писал о них в своих путевых заметках известный французский путешественник и философ маркиз де Шателье, - они сильно напоминают людей, составлявших то, что называлось "народом" в республиках античности".
Все эти особенности Вирджинии породили особый тип правящей элиты. Опыт и практика самоуправления укрепляли ее свободомыслие, компетентность и независимость, а плантационное хозяйство питало феодальную спесь и властность. "Уединенно-возвышенное положение богатого сельского джентльмена порождает у него весьма величественные представления, - с теплым юмором писал о своих собратьях один из отпрысков вирджинских магнатов Д. Кеннеди. - Он становится непогрешимым, как сам папа римский; постепенно приобретает привычку произносить длинные речи, редко терпит возражения и всегда очень чувствителен в вопросах чести".
Эти твердые, независимые и властные люди чувствовали себя не только хозяевами своей земли и рабов, но и естественными правителями всей колонии. Они "высокомерны и дорожат своими свободами, - рассказывал один английский путешественник, - не выносят ограничений и вряд ли могут примириться с мыслью о контроле со стороны какой-нибудь вышестоящей силы".
Поэтому неудивительно, что когда "вышестоящая сила" - Англия попыталась наложить на них новые ограничения, вирджинская элита пошла в авангарде освободительной борьбы, составив цвет нарождавшегося поколения американских лидеров. Но пока, в начале 60-х годов, маховик старой власти вращался по-прежнему размеренно, и никто еще не мог знать, что колониальный "золотой век" подходил к концу.
* * *
С окончанием в 1763 году Семилетней войны между Англией и Францией, в результате которой последняя потеряла свои основные владения в Северной Америке, в колониальной политике Великобритании произошел резкий поворот. Кабинет Дж. Гренвилла решил переложить на самих колонистов часть финансового бремени, возросшего за годы войны и отчасти связанного с содержанием английских войск на новых границах колоний. В 1764-1765 годах последовала серия мер ("сахарный закон", законы о постое и гербовом сборе), вводящих прямое налогообложение колоний для пополнения королевской казны. Кроме того, прокламацией 1763 года запрещалось свободное переселение колонистов за Аллеганские горы. То, что в Лондоне представлялось логичным и естественным, казалось уязвленным колонистам попранием их священных и привычных прав. Недовольство зрело постепенно; даже после известия о принятии закона о гербовом сборе большинство членов вирджинской ассамблеи были настроены нерешительно. 30 мая на заседании берджессов только что избранный молодой юрист П. Генри произнес свою знаменитую речь, резко диссонировавшую с настроением законодателей. "У Цезаря был Брут, у Карла I - Кромвель, и Георг III может извлечь из этого уроки". Стоявший в дверях Джефферсон оказался в числе немногих, охваченных энтузиазмом. "Ничего подобного я никогда не слышал", - писал он позднее в автобиографии.
Неистовый Генри после внушения спикера Робинсона извинился, признав, что "горячка страсти заставила его сказать больше, чем он намеревался". Тем не менее именно эти слова сделали Генри героем дня, а одна из предложенных им резолюций об исключительном праве ассамблеи облагать налогами своих граждан была принята. Примеру Вирджинии последовали другие штаты, и Лондон в конце концов отменил закон о гербовом сборе. Воцарившееся было спокойствие вновь нарушилось в 1767 году после принятия законов Тауншенда о таможенных пошлинах на ввозимые в колонии свинец, стекло, бумагу, чай.
Весной следующего года ассамблея Вирджинии снова направила королю протест, в котором объявила законы Тауншенда неконституционными и грозила бойкотом обложенных налогами товаров.
На сей раз - и это был тревожный для короны симптом - зачинщиками выступили умеренные и осторожные политики - Э. Пендлтон, Р. Блэнд, А. Кэри. Движение бойкота вскоре охватило всю страну, и Вирджиния тоже должна была сказать свое слово. Это и произошло на майской сессии ассамблеи в 1769 году; к тому времени 26-летний юрист Джефферсон был избран берджессом от своего графства Олбемал. Он вошел в политику не только из честолюбия, но и руководствуясь принципом "благородство обязывает": политическая деятельность служила почетным и неотъемлемым атрибутом всякого уважающего себя плантатора, чего нельзя было сказать о философских и научных занятиях. "Сам Сократ, - говорил Джефферсон, - был бы не замечен в Вирджинии, если бы не стал общественным деятелем". К власти плантаторы приучались смолоду. Начальной, почти обязательной ступенью служил пост мирового судьи в графстве, где молодой человек знакомился с законами и участвовал в их отправлении. Затем, если он себя хорошо зарекомендовал и приобрел известность в графстве, он мог рассчитывать на избрание в ассамблею. Джефферсон в свои годы смог перескочить первую ступеньку потому, что кроме имени и 7 тысяч акров отца он располагал и уже завоеванной собственной репутацией среди плантаторской верхушки. Единственная небольшая трудность заключалась в том, что как человек замкнутый и застенчивый он был плохо приспособлен к избирательным кампаниям даже в их тогдашнем смысле. "Лучшие из джентльменов", сетовал его современник, должны "фамильярничать с народом", используя "разлагающее влияние спиртных напитков и другие средства такого же свойства". Выставленные избирателям бочонок рома и корзина пирожных легко устранили и это последнее препятствие. В стенах Капитолия молодой долговязый законодатель затерялся в шеренге маститых и тертых политиков, среди которых возвышалась внушительная фигура человека с военной выправкой и стальными глазами - полковника Джорджа Вашингтона.
На сессии Джефферсон вместе с большинством делегатов поддержал резолюцию Вашингтона о солидарности с протестом Массачусетса против введения в Бостон английских войск и о выдвижении лозунга "никакого налогообложения без представительства". Губернатор лорд Ботетур (Фоке умер в 1768 г.) "имел удовольствие распустить собрание". В ответ 69 делегатов, собравшихся в таверне Ралея, приняли решение об образовании ассоциации противников английского импорта, после чего дружно подняли тост за здоровье его величества Георга III. В их числе, хотя и не в первых рядах, был и молодой делегат от Олбемала. Так он принял боевое крещение, но до настоящей схватки дело не дошло, ибо к осени законы Тауншенда, за исключением символического налога на чай, были отменены, и движение бойкота в Вирджинии, как и в других штатах, тихо умерло естественной смертью.
Старые добрые времена, казалось, вернулись вновь - к удовольствию старожилов и немалому разочарованию молодых горячих голов. Годы спустя Джефферсон задним числом порицал земляков за то, что в то время они "впали в состояние бесчувствия к нашему положению". Он уже успел полностью окунуться в конфликт с метрополией, который будоражил ум и сердце, давая богатую пищу его интеллекту. Джефферсон углубляется в целенаправленное изучение политики, ищет в истории прецеденты борьбы колоний за независимость, выписывая цитаты, подобные этой: "По мере своего усиления они порывали со своей зависимостью".
Как теоретик он, видимо, перебирал в уме все возможные варианты развития событий, но жить тем не менее нужно было в реальном мире. Ни Джефферсон, ни другие вирджинские политики не рассчитывали тогда на отделение от метрополии или на какие-то необычные горизонты политической карьеры. Жизненная программа Джефферсона в те годы была достаточно типичной для людей его круга, хотя и отражала все разнообразие его наклонностей. Ее символом в какой-то степени стало Монтичелло - "маленькая гора", как на итальянский лад назвал он свое имение на лесистом холме неподалеку от Шэдуэла. Здесь, вдали от дорог и селений, среди лесных зарослей, зеленых холмов и долин, венчаемых на западе величавым силуэтом горного хребта Блу Ридж, он решил воздвигнуть свой дом, совсем непохожий на однообразные кирпичные строения вирджинской знати. Его пленил образец римских загородных вилл времен античности, воскрешенных в XVI веке архитектором итальянского Возрождения Андреа Палладио.
В начале 1772 года Джефферсон привез в строящийся Монтичелло свою жену - 23-летнюю вдову Марту Скелтон, дочь богатого юриста и работорговца Джона Уэйлза. Их брак стал счастливым союзом, и Джефферсон оказался образцовым отцом семейства. В следующем году его тесть умер, оставив дочери около 11 тысяч акров земли и более сотни рабов. Даже после продажи половины этого имущества для покрытия долгов покойного у молодой четы осталось огромное хозяйство - более 10 тысяч акров и около 180 рабов.
К 30 годам Томас Джефферсон достиг большего, чем в свое время его отец. Богатый плантатор, процветающий юрист, депутат ассамблеи, полковник ополчения графства, счастливый муж и отец, владелец прекрасного дома, полного книг и музыкальных инструментов, он готовился прожить долгую, спокойную и насыщенную жизнь джентльмена, законодателя и ученого - жизнь профессора Смолла, юриста Уайта и губернатора Фоке, вместе взятых.
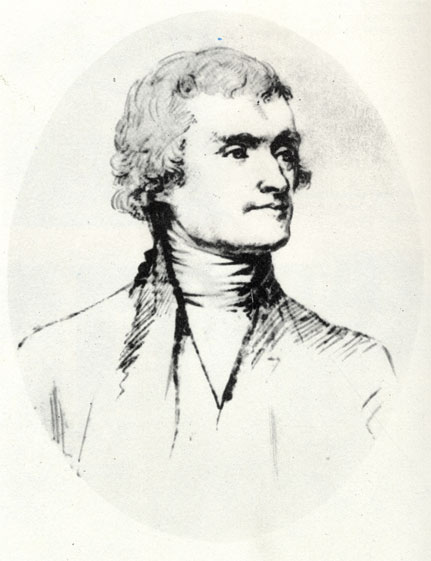
Томас Джефферсон - первый государственный секретарь США (1790 г.)
Но водоворот развивающихся событий неумолимо втягивал Джефферсона, и если первый кризис в отношениях с Англией он наблюдал со стороны, а во втором принял некоторое участие, то в надвигающемся третьем - и решающем - ему суждено было сыграть яркую историческую роль.
В ноябре 1772 года сравнительное спокойствие в отношениях с Англией было нарушено - в бостонском порту патриоты подожгли английский корабль "Гэспи".
Группа молодых вирджинцев во главе с Патриком Генри, братьями Ли и Джефферсоном использовала этот инцидент для создания в Вирджинии "комитета связи" по образцу бостонского. Он оказался как нельзя более кстати: весеннее заседание ассамблеи совпало с получением известия о "чаепитии" и блокаде порта в Бостоне. Хотя эти события не затрагивали Вирджинии непосредственно, чувство солидарности с осажденным Массачусетсом было сильно: "сегодня - Бостон, завтра - мы". Выступая от имени наиболее решительно настроенных делегатов, Джефферсон предложил объявить 1 июня днем поста и молитв, дабы "утвердиться в защите своих прав и обратить сердце короля и парламент к умеренности и справедливости". Резолюция была принята, и новый губернатор лорд Данмор вновь имел опостылевшее уже "удовольствие распустить ассамблею". По установившейся традиции, возбужденные депутаты собрались 27 мая в таверне Ралея, где решились на серьезное дело - предложили созвать конгресс всех колоний и восстановить ассоциацию торгового бойкота английского импорта.
Вирджиния всколыхнулась. "Люди встречались с выражением тревоги и озабоченности, - вспоминал Джефферсон, - воздействие этого дня на всю колонию было подобно электрическому разряду". Даже осторожные политики типа Вашингтона заговорили воинственно; по их мнению, наступал час решающего противостояния: "Налицо кризис, в котором мы должны отстоять наши права или подчиниться".
Правящий класс Вирджинии поднимался на борьбу за независимость быстро и, по существу, единой фалангой, что объяснялось не какой-то особой доблестью вирджинцев, а тем своеобразием ее условий, о котором уже шла речь. Бесцеремонность короны, помимо прочего, создавала изрядный потенциал антибританских настроений, которые накапливались пропорционально увеличению долга вирджинских плантаторов английским торговцам, составлявшего накануне революции, по оценке самого Джефферсона, 2 миллиона фунтов стерлингов. С другой стороны, хозяева Вирджинии могли легко позволить себе предаться радикальному духу протеста, ибо имели за собой надежный тыл. Даже в самые острые моменты освободительной борьбы Вирджиния не знала стихийных народных волнений и беспорядков, подобных тем, которые постоянно вспыхивали в колониях с крупными городами, подобными Бостону, Нью-Йорку, Филадельфии. Страх перед городской "мятежной толпой", преследовавший Г. Морриса и Гамильтона, вирджинской верхушке был неведом.
Если добавить к этому сравнительную однородность и сплоченность местной аристократии, то станет ясно, почему освободительное движение, полностью контролируемое сверху, развивалось здесь столь ровно и спокойно.
И хотя радикалы - Генри, Мэйсон, Джефферсон и др. шли впереди большинства, это объяснялось скорее возрастом и темпераментом, нежели какими-то принципиальными расхождениями. "Мы зачастую хотели продвигаться быстрее, - писал впоследствии сам Джефферсон, - но замедляли свой шаг, чтобы наши менее рьяные коллеги не отставали, а они, в свою очередь нисколько не расходясь с нами в принципе, также ускоряли свою поступь..."
Путь Джефферсона к революции был типичным для своего сословия; нетипичной была широта взглядов и образованность, превратившие его в одного из ведущих ее идеологов.
На пути в большую политику Джефферсона временно остановила... дизентерия: по дороге на вирджинский конгресс он заболел, вернулся домой и не попал в число делегатов колонии на первый континентальный конгресс. Тогда он передал П. Генри и П. Рэндольфу подготовленный им проект резолюции для делегации Вирджинии. Он показался землякам слишком резким, но, дабы труд не пропал даром, они распространили текст отдельной брошюрой сначала в Вильямсберге, а затем и в других городах под названием "Общий обзор прав британской Америки", подписанный просто - "эсквайр, член палаты берджессов". Это первый основательный политический опыт Джефферсона, по которому можно судить о становлении его политических взглядов.
Молодой мыслитель вооружился мощным идейным оружием - концепцией естественного права народа колоний распоряжаться своей судьбой, которое мы сейчас называли бы правом самоопределения. "Наши предки... владели правом, которое природа дает всем, покидать страну, когда не остается другого выбора, в поисках нового местожительства и основывать там новые общества в соответствии с законами и порядками, больше всего содействующими, по их мнению, счастью народа". Чем колонисты хуже древних саксонцев, заселивших когда-то Британские острова? Они сами создали свой государственный строй и добровольно сохранили свое подчинение королю, а следовательно, парламент "не имеет права проявлять свою власть над ними". Да и вообще, вопрошает Джефферсон, с какой стати 160 тысяч избирателей с островов Великобритании должны предписывать законы для 4 миллионов жителей американских штатов, "каждый из которых не уступает им ни в доблестях, ни в умственных и физических способностях?"
Полностью отрицая роль метрополии в развитии колоний, Джефферсон, конечно, подправлял историю, но ведь он и писал не летопись событий, а пропагандистский документ, отрицающий власть парламента над колониями. Эта идея тогда только еще пробивала себе дорогу, и Джефферсон вместе с Б. Франклином стал одним из первых ее проповедников. По логическом развитии его аргументация подводила к идее независимости, но к такому резкому повороту он еще не был готов. Он подробно перечисляет злоупотребления парламента, в которых усматривает "преднамеренный, систематический план нашего порабощения". Его надежды на обуздание парламента обращены к королю. "Откройте свое сердце, ваше величество, либеральным и широким мыслям. Пусть имя Георга III не запятнает страниц истории". Но это обращение выдержано вовсе не в подобострастном, а скорее в требовательно-назидательном духе; Джефферсон прямо-таки диктует Георгу Ш, что тот вправе и чего не вправе делать: по мнению Джефферсона, он не вправе посылать войска, раздавать земли, распускать законодательные собрания и т. п., ибо и король объявляется подвластным естественным законам: "Народ требует своих прав как выведенных из законов природы, а не как дара, пожалованного верховным правителем. Пусть льстит тот, кто боится: это искусство не отличает американцев... Они знают и потому могут открыто заявить, что короли - слуги, а не хозяева народа... Все искусство правления заключается в умении быть честным. Старайтесь только выполнять свой долг, и человечество воздаст вам должное, даже если вы потерпите неудачу". Возможно, эти дерзкие наставления и не достигли ушей короля Георга, хотя палата лордов не замедлила занести имя автора в список особо опасных для государства лиц, но их хорошо услышали и запомнили соотечественники.
События между тем развивались со все возрастающей быстротой. Власть губернатора, лишенного поддержки войск, таяла с каждым днем и переходила в руки "комитетов связи". Суды графств закрылись, и в ноябре 1774 года Джефферсон закончил свое последнее судебное дело, навсегда распрощавшись с юридической практикой. В марте следующего года собрался второй конвент колонии, на котором опять бушевал неистовый Патрик Генри: "В действительности война уже началась! Следующий порыв северного ветра донесет до нас железный лязг оружия! Наши братья уже на поле брани - почему мы стоим без дела? Неужели жизнь так дорога, а мир столь сладок, чтобы покупать его ценой цепей и рабства? Спаси нас от этого, господи боже!.. Дайте мне свободу или дайте мне смерть!".
Порыв "лесного Демосфена", как называл Патрика Дж. Г. Байрон, подтолкнул Джефферсона к одному из его считанных публичных выступлений - он высказался в поддержку резолюций Генри об усилении и подготовке отрядов ополчения и вошел в комитет по этим вопросам. Конвент избрал его запасным делегатом на второй континентальный конгресс. Видя, что события принимают опасный оборот, губернатор Данмор в конце апреля распорядился перебросить запасы пороха, принадлежавшего колонии, на королевское судно, чем предоставил вирджинцам возможность заполнить одну из самых легендарных страниц борьбы за свободу. Вездесущий Генри с отрядом ополчения нагрянул к губернатору и заставил его оплатить общественное имущество, после чего тот счел за благо последовать за украденным им порохом - под защиту корабельных пушек. Вскоре "северный ветер" донес весть о Конкорде и Лексингтоне: она, как писал Джефферсон, "уничтожила последнюю надежду на примирение, и приступ мщения охватил, казалось, людей всех возрастов". А еще через несколько недель в фаэтоне, запряженном четверкой добрых лошадей, он выехал в Филадельфию - навстречу судьбе и большой политической карьере.
19 июня вирджинец занял свое место в филадельфийском Стейт - хауз, где заседал континентальный конгресс. Здесь он впервые познакомился с Б. Франклином, Джоном и Самуэлем Адамсами, Джоном Хэнкоком и другими лидерами освободительного движения. Собственная известность уже обгоняла его. Джефферсон, вспоминал Джон Адаме, принес с собой "литературную и научную репутацию, а также счастливый дар изложения". Своей необыкновенной эрудицией он был известен даже в Нью-Йорке как "величайший разгребатель пыли", по выражению Дж. Дюана. Неважный оратор по сравнению с велеречивыми земляками, он, однако, сразу же стал незаменимым человеком в комитетах. "Хотя и молчаливый в конгрессе, он был настолько исполнительным, откровенным, определенным и решительным в комитетах.., что сразу же покорил меня", - писал скупой на похвалы Джон Адамс.
После сражения при Бенкер - Хилле конгресс объявил о создании континентальной армии под командованием Вашингтона и предписал Джефферсону вместе с Б. Франклином, Д. Джеем, Д. Дикинсоном и Э. Рутледжем составить проект декларации, обосновывающий необходимость взяться за оружие. Само включение 32-летнего вирджинца - второго по молодости из членов конгресса в это созвездие его лучших умов было признанием способностей Джефферсона, но пока - как младшего партнера. Его проект, слишком пространный и декларативный, уступал простому и энергичному варианту Дикинсона, хотя тот и позаимствовал кое-что у своего младшего коллеги. Многоопытному Дикинсону принадлежали и самые памятные слова этого документа: "Мы подсчитали цену борьбы и не нашли ничего более ужасного, чем добровольное рабство... Наше дело правое. Наш союз крепок. Наши внутренние ресурсы велики, и иностранная помощь, несомненно, подоспеет в случае необходимости".
25 июля конгресс принимает составленную Джефферсоном решительную резолюцию в ответ на примирительное предложение лорда Норта и одновременно-верноподданническую петицию королю, подготовленную Дикинсоном. Джефферсон как будто скептически относится к попыткам примирения. "Страна вступает в войну без перспективы примирения", - сообщает он родственнику Ф. Эйпсу. И все-таки иллюзии мирного воссоединения, а значит, и возвращения к прежней жизни в Монтичелло еще живы в нем. "Я из тех, кто искренне желает воссоединения, - пишет он в конце августа своему дяде Джону Рэндольфу - близкому родственнику и одному из немногих вирджинских лоялистов, собирающемуся в Англию, - и предпочел бы зависимость от Великобритании, ограниченную должным образом, зависимости от другой страны или независимости". Осознание неизбежности окончательного раскола и войны приходит к нему медленно и с горечью, как и к большинству делегатов, быть может, еще и потому, что гром барабанов войны никогда не прельщал его, а особенно теперь, когда ее пламя занималось уже и в самой Вирджинии. В ожидании подкреплений лорд Данмор начал вербовать рабов, даруя им свободу и мушкеты для "охоты" на вирджинских ополченцев. К началу декабря у него в отряде было уже более 300 черных солдат под флагом с надписью "Свободу рабам!". Такой вариант эмансипации заставил содрогнуться даже гуманного Джефферсона. Последствия расовой войны, разжигаемой англичанами, было страшно представить. А вестей из дома, как нарочно, нет уже больше месяца. "Тягостное ожидание, в котором я нахожусь, - писал он Эйпсу, - невозможно вынести. Если что-нибудь случилось, ради бога, дайте мне знать об этом". В конце декабря, забыв о политике, Джефферсон мчится домой, на Юг, где уже гремят выстрелы: Данмор высадил десант, но был разбит вирджинским ополчением в бою под Норфолком.
Остаток зимы и весну Джефферсон безвылазно просидел в Монтичелло, чем основательно озадачил своих друзей, а позднее - биографов. Даже "Здравый смысл" Пейна, всколыхнувший всю страну, не сдвинул его с места. Он словно медлил перед последним решительным шагом. Только в мае Джеффер-сон спустился со своего холма, окунувшись в политическую жизнь, и тогда "спячка" в Монтичелло сменилась полосой бурной политической деятельности.
К тому времени дело борьбы за независимость продвинулось далеко вперед: полным ходом велись переговоры об иностранной помощи, американские суда каперствовали против англичан, которые эвакуировались из Бостона, конгресс направил войска в поход на завоевание Канады. 15 мая, на следующий день после приезда Джефферсона, в конгрессе была принята резолюция Дж. Адамса, рекомендовавшая колониям создать собственные органы управления. В тот же день вирджинский конвент инструктировал своих делегатов в конгрессе, требуя провозгласить независимость колоний, а сам приступил к разработке конституции Вирджинии. Рубикон был перейден. "Я так долго находился вне мира политики, - пишет Джефферсон Пейджу 17 мая, - что чувствую себя новым человеком".
7 июня Ричард Ли, выполняя наказ Вирджинии, внес на рассмотрение конгресса знаменитые резолюции независимости, предусматривавшие полное отделение от метрополии, создание конфедерации штатов и заключение союзов с иностранными государствами. Лидеры конгресса спешили с провозглашением независимости прежде всего по внешнеполитическим соображениям. Они отлично понимали, что только независимое и суверенное государство, а не взбунтовавшиеся подданные Великобритании, какими оставались колонии в глазах внешнего мира, могло рассчитывать на иностранную помощь, столь необходимую в борьбе с превосходящими силами метрополии. "Независимость, - заявил Р. Ли при внесении своих резолюций, - не вопрос выбора, а необходимость как единственный способ для заключения союзов с иностранными государствами". Те же аргументы выдвигались в инструкциях штатов своим делегатам и в стенах самого конгресса. Как записал суть доводов сторонников этого шага сам Джефферсон, "только провозглашение независимости даст возможность европейским странам иметь с нами дело в соответствии с их порядками...". В горячих дебатах менее решительная часть делегатов добилась отсрочки принятия резолюций до 1 июля; решено было также создать специальный комитет для выработки соответствующей декларации. Джефферсон в этих дебатах не участвовал. Союз не существовал еще даже на бумаге, и все помыслы его были устремлены к Вирджинии, где открывалась уникальная для мыслителя возможность применить республиканские теории на практике - в выработке новой конституции. "Это дело чрезвычайно интересного свойства, в котором каждый желал бы участвовать, - пишет он приятелю Т. Нельсону в Вильямсберг, - воистину в этом заключается весь смысл нынешнего сбора, ибо если будет создано плохое правление, то можно было бы с таким же успехом довольствоваться прежним - предложенным нам из-за океана, без риска и затрат борьбы". Не вправе покинуть конгресс в эти решающие дни, он вынужден был довольствоваться посылкой собственного проекта конституции. Послание достигло Вирджинии к концу июня - слишком поздно, чтобы оказать серьезное влияние на разработку конституции. Земляки позаимствовали из него лишь список злоупотреблений королевской власти - в качестве преамбулы. Однако проект этот представляет для нас значительный интерес как концентрированное выражение политических взглядов самого Джефферсона в тот период.
В целом его план был более демократичен, чем принятый съездом проект Дж. Мэйсона. Он предусматривал распространение права голоса на всех фригольдеров, владеющих не менее чем 25 акрами земли, ограничение полномочий исполнительной власти, запрет работорговли, билль о правах, утверждающий свободу слова, вероисповедания и другие демократические права. Особенно смелой для своего времени была аграрная программа Джефферсона. Он предлагал использовать фонд свободных земель, превращенный в общественное достояние, исключительно для безвозмездного наделения землей малоимущих и неимущих белых граждан - 50 акров каждому. Это вполне соответствовало его идеалу фермерской республики, но шло вразрез с видами большинства плантаторов на свободные земли. План встретил такой отпор, что публично Джефферсон к нему уже больше не возвращался, хотя этот проект остался в истории одним из первых идейных прообразов американского пути развития сельского хозяйства, на который страна встала только после гражданской войны. Странным, однако, было то, что сенат, по проекту Джефферсона, должен был не избираться непосредственно, как в плане Мэйсона, а назначаться палатой представителей, причем на 9-летний срок. "Почему?" - недоумевал даже крайне осторожный Э. Пендлтон, обсуждавший тогда в переписке с Джефферсоном проблемы государственного устройства Вирджинии. "Я имею в виду две цели, - откровенно отвечал автор проекта, - заполучить мудрейших из числа избранных и сделать их совершенно независимыми после избрания. Я всегда замечал, что выбор, сделанный самим народом, как правило, не отличается мудростью. Его первое выделение обыкновенно грубо и разнородно. Но придайте избранным таким образом возможность второго выбора - и они выберут достойных".
В аналогичных выражениях молодой Гамильтон рекомендовал Г. Моррису отказаться от прямого избрания губерна тора. Здесь прослеживается одно из самых прочных и живучих, как мы увидим, убеждений Джефферсона - о необходимости "фильтрации" воли народа.
Рвущийся в Вирджинию на конституционный съезд Джефферсон не подозревал, что сама история стучится к нему в дверь. Вместе с Б. Франклином, Дж. Адамсом, Р. Ливингстоном и Р. Шерманом он был избран в состав комиссии по подготовке Декларации независимости. Логичной кандидатурой от Вирджинии был автор исторических резолюций Р. Ли, но он, сославшись на неотложные дела, уехал в Вильямсберг. Члены комитета поручили Джефферсону, как самому молодому и обладающему отменным слогом, подготовить проект, избавив себя от лишних хлопот, а заодно - и от будущей славы. С 14 по 28 июня в доме каменщика Граффа на углу Базарной и Седьмой улиц, где он снимал две комнаты, в часы, свободные от заседаний, Джефферсон и составил первоначальный вариант декларации.
Перед ним стояла практическая и пропагандистская в своей основе задача: не столько провозгласить независимость (это уже было сделано 2 июля принятием резолюций Р. Ли), сколько доказать законность и правомерность этого акта всему миру в силу того "должного уважения к мнению человечества", как сказано в преамбуле документа, которое "обязывает изложить причины, побуждающие его к отделению". Но только редкое дарование автора, его "особая", как говорил Джон Адаме, "способность к выразительности" превратили очередной пропагандистский документ в явление исторической важности.
Сам Джефферсон уже на склоне лет, пожалуй, лучше всех объяснил замысел декларации: "Цель заключалась не в том, чтобы найти новые принципы или аргументы, над которыми раньше не задумывались, и не просто в том, чтобы сказать что-то, прежде не высказанное, но в том, чтобы изложить человечеству здравую суть дела в выражениях, достаточно простых и твердых, чтобы заручиться его согласием и оправдать ту независимую позицию, которую нам пришлось занять. Не претендующая на оригинальность принципов или чувств, не списанная с какого-либо конкретного предшествующего труда, она была задумана как выражение американского разума и должна была придать ему тот тон и дух, которых требовала обстановка".
С точки зрения выполнения этих задач Декларация независимости является совершенной как по композиции, стилю и языку, так и по самому содержанию. Чтобы оправдать востание колоний с моральных и правовых позиций, требовалось выйти за пределы общепринятой тогда доктрины "божественного права" королей, не признававшей законности бунта, и противопоставить ей иную концепцию. Поэтому в преамбуле Джефферсон дает непревзойденное по емкости и лаконичности изложение теории естественного права народа на самоопределение. "Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и наделены создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых - право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правления становится гибельной для этой цели, то народ вправе изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью".

Подписание декларации независимости (с картины Дж. Трамбелла)
Хотя принцип равноправия у Джефферсона не распространяется на черных и женщин и точнее может быть сформулирован как "все белые мужчины сотворены равными", Декларация независимости при всей ее ограниченности осталась в истории, по .словам К. Маркса, как "первая декларация прав человека". Идеи равноправия людей, народного суверенитета и вытекающее из него право каждого народа изменять свое государственное устройство, подчинение последнего интересам развития индивидуальной свободы и счастья как высшей ценности - практически все кредо Просвещения изложено в этих 100 незабываемых словах. Идеи эти были давно известны, но впервые в истории они провозглашались от имени целого государства.
Отброшены традиционные и избитые рассуждения о полномочиях парламента и короля, правах британских подданных; весь конфликт с метрополией возносится на высоту предельного обобщения, где остаются лишь два субъекта - свободный американский народ, защищающий свои естественные права, и тирания, персонифицированная в личности короля-узурпатора. В доказательство "на суд беспристрастному миру" представляется длинный перечень злоупотреблений и узурпации, занимающий две трети всего документа. Эта часть сейчас кажется слишком тенденциозной и архаичной, но она была вполне оправданна и необходима с точки зрения пропагандистских задач. В конце концов, как пишет самый авторитетный из современных биографов Джефферсона Д. Мэлон, "моральный перевес был на стороне патриотов и казался таким подавляющим, что он не видел необходимости прибегать к помощи аптекарских весов". Вслед за списком злоупотреблений следует перечень тщетных попыток колоний воззвать к совести короля и братьев-британцев, что усиливает контраст между агрессивным тираном и робкой жертвой. После этого остается только удивляться долготерпению колонистов - как раз этого и добивался автор. И уже затем единственно возможным выходом из описанной ситуации объявляется провозглашение независимости колоний.
Легко заметить, что Джефферсон весьма деликатно обошелся с Георгом III. Томасу Пейну в "Здравом смысле", например, не требовалось длинного списка злоупотреблений, чтобы доказать низость короля: любой король для него - презренный тиран, заслуживающий лишь низвержения. Джефферсон же доказывает, что Георг III "не может быть правителем свободного народа" не потому, что он - король, а потому, что он - несправедливый король, узурпатор. Это и понятно - декларация была призвана снискать Соединенным Штатам поддержку "справедливого мира", а он был тогда сплошь монархическим, и чрезмерное тираноборство могло отпугнуть потенциальных союзников.
Первый набросок Джефферсона настолько удался, что Франклин и Дж. Адамс высказали лишь мелкие замечания, после чего автор окончательно отредактировал текст, и уже 28 июня, одобренный комитетом, он лег на стол конгресса. Джон Адамс, ревностно относившийся к прижизненной славе Джефферсона, в 1822 году пробурчал, что в Декларации независимости "не было ни одной идеи, которая бы не муссировалась в конгрессе два предыдущих года". Не отрицал этого и сам Джефферсон; да и странно было бы оправдывать отделение колоний неведомыми доселе принципами. Идеи эти носились в воздухе, и Джефферсон лишь облек их в совершенную форму. Вместе с тем, хотя он и утверждал, что не пользовался никакими непосредственными источниками, у декларации были свои прямые предшественники. Формулировка прав человека взята, по всей вероятности, из "Второго трактата о государстве" Джона Локка - главного авторитета для лидеров колоний. Примечательная и обычно акцентируемая разница состоит в замене локковской "собственности" на "стремление к счастью" - типичное определение просветителей XVIII столетия, провозгласивших смыслом жизни земное счастье человека вместо потустороннего рая, обещанного религией. Замена была, разумеется, не случайной, но это не значит, что Джефферсон считал право собственности излишним. Позже в письме Дюпону де Немур он писал, что право собственности есть "основное естественное право, заложенное в наших природных стремлениях и в средствах, которыми мы это стремление осуществляем..." Частная собственность считалась еще и необходимым условием реализации всех других прав; не случайно в первоначальном варианте декларации говорилось, что "люди сотворены равными и независимыми", то есть наделенными самостоятельными источниками существования. Вместе с тем в просветительской шкале ценностей право собственности не являлось правом высшего порядка и могло быть вынесено "за скобки", тем более что Джефферсон вслед за более радикальными просветителями - шотландцем Ф. Хатчесоном и др. не считал его полностью неотчуждаемым, соглашаясь с возможностью некоторого ограничения права собственности, дабы "оно не нарушало сходных прав других разумных существ".
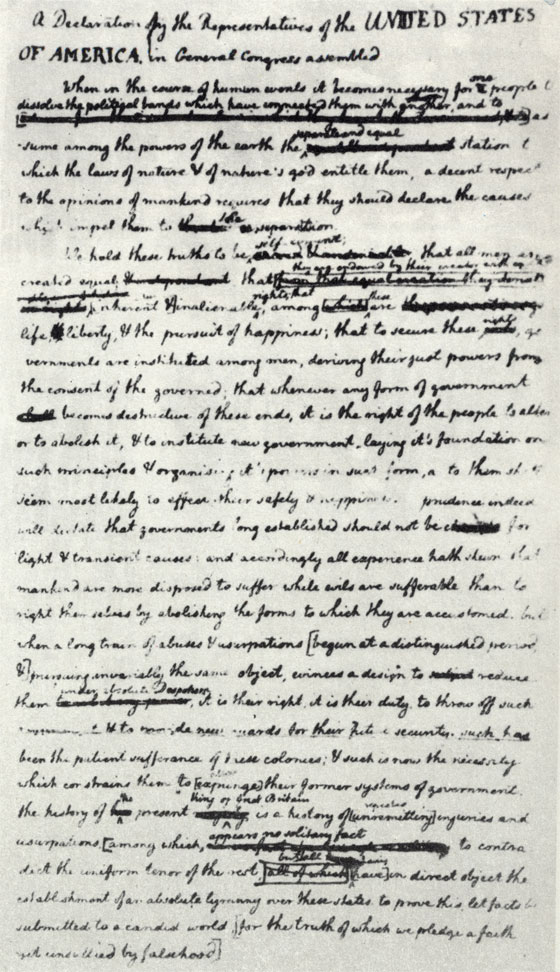
Преамбула Декларации (рукописный вариант Джефферсона)
Еще ближе к декларации стоит вирджинский билль о правах, составленный Мэйсоном в мае и хорошо знакомый Джефферсону. Преамбула билля гласит: "Все люди от природы свободны и независимы и наделены определенными врожденными правами.., а именно: наслаждение жизнью и свободой вместе со средствами приобретения и обладания собственностью и достижения счастья и безопасности. Вся власть принадлежит народу и, следовательно, от него исходит".
Конгресс обсуждал проект два дня, внес некоторые изменения, и 4 июля Декларация независимости была принята. Как и всякий хороший стилист, Джефферсон болезненно воспринял коррективу конгресса, назвав ее грабежом. Видимо, поэтому он разослал близким друзьям декларацию в ее первоначальном варианте. На деле текст только выиграл: были убраны утомительные юридические подробности, длинноты и чрезмерно напыщенные фразы. Даже исключение известного пассажа, в котором вся вина за "отвратительную" работорговлю и само рабство в выспренних выражениях возлагалась на того же вездесущего Георга III, улучшило документ, ибо в данном случае и без "аптекарских весов" было ясно, что главную ответственность за это несут сами колонии.
Однако не эти преходящие моменты, а те самые 100 слов составили бессмертную славу декларации. "Честь и слава Джефферсону, - говорил президент Авраам Линкольн, - который... имел достаточно хладнокровия и предвидения, чтобы внести в обыкновенный революционный документ абстрактную истину, применимую ко всем временам и народам".
Но в горячке июльских дней 1776 года ни автор декларации, ни страна в целом не сознавали исторического значения документа, который уже начал свою самостоятельную жизнь. Его авторство оставалось еще несколько лет неизвестным, да и сам он не сразу приобрел большую популярность. Пройдет много лет, прежде чем потомкам откроются подлинные масштабы исторических событий; тогда окажется, что Декларация независимости была самым высоким и ярким взлетом свободомыслия молодой американской буржуазии, до которого она уже больше никогда не поднимется и который будет сиять в веках манящим светом неосуществленного идеала. Ну а в те времена предводители колоний смотрели на эти вещи сугубо практически. Единодушное одобрение конгрессом, в котором преобладали трезвомыслящие буржуа, революционной преамбулы декларации было отнюдь не случайным. Она рассматривалась прежде всего как документ "психологической войны", созданный на потребу дня и адресованный внешнему миру, а не как вечное обязательство перед своим собственным народом.
Другое дело - большая государственная печать, создаваемый на века символ новой власти. Джефферсон, которому наряду с Франклином и Дж. Адамсом конгресс поручил и эту миссию, предложил изобразительное решение в духе своей преамбулы: Моисей, стоящий на берегу и простирающий свою длань над морем, повелевая ему поглотить фараона, сидящего в открытой колеснице с короной на голове и мечом в руке. С огненного столпа в небесах на Моисея падают лучи света, дабы подчеркнуть, что он действует по велению божества. Девиз (предложенный Франклином. - В. П.) - "Восстание против тиранов есть послушание богу".
Увековечить призыв к бунту в качестве эмблемы государственной власти? Выказав должную бдительность, конгресс в конце концов заменил тираноборца Моисея грозным монархического вида орлом ("этой отвратительной облезлой птицей", по выражению Б. Франклина), а будоражащий девиз - подчеркнуто нейтральным "Е Pluribus Unum" ("Из множества - единство"). Так оно и осталось по сей день, а Джефферсон, не желая расставаться с дорогим сердцу афоризмом, приберег его для своей личной печати, скреплявшей частную корреспонденцию.
Однако в те дни и Джефферсон вряд ли чувствовал, что творит историю. Мы даже не знаем, участвовал ли он в подписании декларации 4 июля или подписывал ее позднее вместе с другими. День 4 июля, судя по его записям, ничем не отличался от предыдущих: температура в шесть часов утра была 68 градусов по Фаренгейту, а наивысшая днем - 76 градусов; он купил термометр и заплатил за семь пар женских перчаток. Его больше волновало состояние беременной жены и дела родной Вирджинии, куда он и вернулся при первой возможности, уговорив Генри Ли заменить его в конгрессе: "Я принял священное обязательство вернуться домой".
* * *
Для Джефферсона, в отличие от большинства его состоятельных земляков, революция не окончилась отделением от короны. Вирджиния, оставшаяся и после провозглашения независимости той же аристократической республикой, расходилась с его философским идеалом общественного устройства, а практическое чутье политика подсказывало, что лучшего момента для приведения действительности в соответствие с ним уже не будет. Он не уставал повторять, что самое благоприятное время "для юридического закрепления всех основных прав - покуда наши правители честны, а мы едины. С окончанием войны мы покатимся вниз. Тогда отпадет необходимость постоянного обращения за поддержкой к народу ... Его права будут преданы забвению. Он забудет о своих нуждах и о себе в единственном стремлении делать деньги и не подумает объединиться для обеспечения должного уважения к своим правам. Поэтому эти оковы, если их не сбросить во время войны, останутся с нами надолго и будут все тяжелей". Для философа-политика вызов был действительно неотразим, но в чем же заключались эти оковы?
На склоне лет, вспоминая свою реформаторскую деятельность в Вирджинии, Джефферсон выделил три кита, составляющие "систему, посредством которой будут уничтожены все корни прежней или будущей аристократии и заложены основы истинно республиканского правления", - это отмена права первородства и майората, установление свободы вероисповедания и, наконец, проект системы всеобщего образования. Майорат - порядок наследования имущества без отчуждения и право первородства - преимущественного наследования старшим сыном были архаичными феодальными порядками, установленными в Вирджинии юридически, фактически же почти не соблюдаемыми. Но даже их во многом уже символическое существование оскорбляло пуриста Джефферсона как искусственное препятствие на пути свободного землевладения, наличие которого предопределяло концентрацию земель в тех или иных руках не в силу способностей, а просто по праву привилегированного наследования. Поэтому уже в октябре 1776 года Джефферсон внес в ассамблею предложение об отмене майората, а позднее - и права первородства. Умеренность предложения Джефферсона очевидна: он отнюдь не собирался вводить уравнительное землепользование, а хотел лишь утвердить равенство имущественных прав внутри состоятельных семей. Обилие свободных земель в Вирджинии само подрывало устойчивость этих феодальных пережитков, которые к тому времени отмирали естественной смертью, так что его законопроекты были лишь завершающим ударом. Не случайно они встретили слабое сопротивление и мало что изменили в действительном положении вещей. Проницательный наблюдатель начала XIX века увидел в Вирджинии то же имущественное и социальное неравенство, что и в колониальные времена: "Здесь и там взгляд поражают величественные строения аристократов со всеми их принадлежностями, а на много миль вокруг можно видеть только маленькие закоптелые хибары и бревенчатые лачуги бедных старательных арендаторов. И, что самое смехотворное, эти люди, которые подходят к "большому дому" с картузом в руках, преисполненные дрожащей покорности последних феодальных вассалов, на задворках возбужденно бахвалятся тем, что живут в краю свободных людей, равных прав и свободы".
Гораздо более острой и значительной была борьба Джефферсона за установление в штате религиозной свободы. Государственная англиканская церковь Вирджинии своими преследованиями иноверцев, экономическим гнетом и связью с метрополией заслужила ненависть рядового фермерства. У убежденного деиста и просветителя Джефферсона ничто, пожалуй, не вызывало такого искреннего возмущения, как религиозная нетерпимость и ее церберы - англиканские священники. Именно в борьбе с ними он проявил больше всего бойцовских качеств.
В ассамблею Вирджинии он внес резолюции, предусматривавшие отделение церкви от государства, отмену законов, препятствующих свободе вероисповедания, а также отмену привилегий священников англиканской церкви и налогов в ее пользу. Против Джефферсона поднялись приверженцы официальной церкви во главе с Пендлтоном и Николасом, которые сумели отстоять связь церкви с государством. Став губернатором, Джефферсон возобновил наступление, но только в 1783 году его сторонникам удалось провести билль о религиозной свободе через ассамблею. Этот знаменитый закон, как бы распространивший принципы Декларации независимости на область религиозной свободы, по праву считается одним из замечательных документов американской истории. Его философская преамбула - это гимн разуму и совести, освобожденным от диктата государства и церкви. Закон гласил, что "дозволять гражданским властям вмешиваться в область мировоззрения людей и ограничивать вероисповедание или распространение тех или иных принципов, считая их неверными, - опасное заблуждение, которое сразу же разрушает всю религиозную свободу, поскольку, выступая в роли судьи, гражданская власть сделает свои взгляды критерием истины и будет одобрять или осуждать взгляды других, руководствуясь тем, насколько они согласуются с ее собственными или отличаются от них... Истина сильна и восторжествует, если ее предоставить самой себе; она - верный и надежный противник заблуждения, и ей нечего опасаться конфликтов, если только людское вмешательство не лишит ее естественного оружия - свободы дискуссии и спора..."
Закон этот прогремел по всей стране, был восторженно встречен просвещенной Европой и укрепил международную репутацию автора. Не случайно Джефферсон в конце жизни считал его одним из трех своих самых значительных достижений наравне с Декларацией независимости и Вирджинским университетом; не случайно и то, что этим законом он на всю жизнь снискал себе ненависть узколобой поповщины.
Но, пожалуй, самым интересным и характерным для Джефферсона был его законопроект "всеобщего распространения знаний". В соответствии с традициями Просвещения он считал образование залогом процветания республики, обеспечивающим мудрое правление и развивающим гражданские добродетели народа. "Для меня является аксиомой, - писал он Вашингтону, - что наша свобода может быть сохранена только в руках самого народа, наделенного известной степенью образования". Образование, подчеркивал Джефферсон в автобиографии, "позволит ему разобраться в своих правах, поддерживать их и разумно выполнять свою роль в деле самоуправления".
Образование было слишком важным делом, чтобы предоставить его случаю. В Новой Англии, правда, к тому времени уже имелись общественные школы, но единая государственная система всеобщего образования, предложенная Джефферсоном, была для тогдашней Америки делом неслыханным. В преамбуле законопроекта провозглашались две главные цели такой системы: "просветить в пределах возможного умы народа" и обеспечить такое положение, чтобы "лица, которых природа наделила талантами и достоинствами, вследствие полученного либерального образования были бы достойны получить и способны охранять вверенные им священные права и свободы своих сограждан, к чему они должны призываться независимо от своих средств, происхождения и других случайных условий или обстоятельств".
Короче, речь шла о воспитании граждан и выращивании лидеров, что четко отразилось в предложенной Джефферсоном структуре системы образования. В ней предусматривались три ступени: начальная, высшая и средняя школа. Графства разбивались на небольшие округа, каждый из которых должен содержать одну начальную школу для бесплатного трехлетнего обучения чтению, письму и арифметике. В средних школах должно было вестись платное обучение языкам, грамматике, математике и географии. Исключение делалось для детей бедных родителей, наделенных "наиболее обещающими талантами и нравом", кои в количестве 60-70 человек должны были ежегодно отбираться из числа выпускников начальных школ и обучаться за счет штата. В этих школах предполагалась строгая система отбора, которая в первые два года доводила бы количество стипендиатов до 20 - по одному на каждую среднюю школу, таким образом 20 самых способных должны были "ежегодно выгребаться из мусора и обучаться на общественный счет". После этого половина выпускников опять отсеивалась, а половина имела право бесплатно продолжать в течение трех лет образование в колледже Уильяма и Мэри "для изучения избранных по желанию наук". Дети состоятельных родителей отбору не подвергались. Смелость и новаторство проекта несомненны: Джефферсон предлагал имущему обществу Вирджинии взвалить на себя бремя воспитания и образования лучших из числа обездоленных. Поскольку Джефферсон стремился к расширению социальной базы для "рекрутирования" талантов, "которые природа щедро рассеяла как среди бедных, так и среди богатых", постольку его предложения были прогрессивны и далеко опережали свое время. Неудивительно, что они так и не были приняты ассамблеей, а первые государственные школы в Вирджинии появились лишь через 100 лет.
Но бросается в глаза и другое: подчеркнутый аристократизм плана, тщательно продуманная система жесткого отбора и взращивания элиты для управления государством. В этом проекте, как ни в каком другом, ясно просматриваются общие контуры всей политической философии Джефферсона. "Глас народа" для него - "глас божий", народ есть депозитарий своих прав и свобод, источник государственной власти; но на практике непосредственное его участие в управлении государством сводится к выделению из своей среды, из "мусора", "естественной аристократии", которой - и только ей одной - принадлежит почетная и ответственная функция государственного управления. "Мы, в Америке, считаем, что необходимо ввести народ в каждый государственный орган в той мере, в какой он способен осуществлять свои права", - писал Джефферсон в 1789 году. Но вопрос в том, какова эта мера. Народ "непригоден осуществлять исполнительную власть, но пригоден для избрания человека, который будет это делать. Он не пригоден для законодательной деятельности, поэтому у нас он только выбирает законодателей. Он непригоден для того, чтобы трактовать право, но вполне способен решать его фактические вопросы. Поэтому в суде присяжных его представители решают все фактические вопросы, предоставляя постоянным судьям определять законы на основе этих фактов". Задача государственного устройства - создать благоприятные условия для этого "отбора", устранить препятствия (как-то: феодальные привилегии, религиозная дискриминация) на пути естественного, по мнению Джефферсона, процесса формирования "подлинной аристократии", природных талантов и добродетелей. "Та форма правления является наилучшей, - писал он позднее Дж. Адамсу, - которая наиболее эффективно обеспечивает отбор естественной аристократии для правительственных учреждений на замену искусственной аристократии богатства и происхождения". Рассматриваемая под этим углом зрения, вся его программа реформ в Вирджинии, подчиненная этой основополагающей идее, обретает строгое единство. Замысел был велик и строен - слишком строен, как следует из того же письма Адамсу: "Если бы закон о религиозной свободе, составляющий часть этой системы, покончивший с аристократией духовенства и возвративший гражданам свободу взглядов, и акты о наследовании, обеспечивающие равенство в положении граждан, дополнились образованием, то народные массы поднялись бы на высокий уровень морального совершенства, необходимого для собственного благополучия и надлежащего государственного управления. Таким образом совершилась бы великая цель их подготовки к отбору подлинной аристократии для занятия ответственных государственных постов, исключая различных "псевдоаристократов".
Джефферсоновское выражение "выгрести из мусора" в русском переводе соответствующего отрывка "Заметок о штате Вирджиния", помещенного в сборнике "Американские просветители", опущено без отточий; между тем оно очень важно для передачи джефферсоновского замысла, в котором элемент аристократического недоверия к народу своеобразно сочетается с безграничной просветительской верой в силу знания, овеществленную в интеллектуальной элите. "Меритократия" Джефферсона оказалась типичной утопией энциклопедиста, которая владела им до конца жизни. "Благодаря такой системе, - писал он в 1813 году, - достойных и талантливых отыскивали бы во всех слоях общества, и образование подготовило бы их к победе в соперничестве за ответственные посты с богатыми и родовитыми людьми". В условиях, когда знание неизбежно продолжало оставаться монополией и привилегией богатства, соблюдение критерия образованности при формировании политической элиты приводило, как увидит впоследствии президент Джефферсон, лишь к закреплению господствующих позиций состоятельной верхушки общества.
Борьба за религиозную свободу и развитие образования была лишь наиболее заметной частью усилий Джефферсона, направленных на пересмотр законодательства штата, в составе "комитета провизоров" вместе с Уайтом, Мэйсоном, Пендлтоном и Т. Ли. Менее драматической, но потребовавшей еще более кропотливого труда была борьба за изменение уголовного законодательства. И на этом поприще Джефферсон выступил во всеоружии идей Просвещения. Разработанный им кодекс, за исключением раздела о рабах, отличался от прежнего бессмысленно жестокого уголовного права Вирджинии гуманностью и умеренностью. В частности, смертная казнь сохранялась только для государственных изменников и убийц, тогда как прежде ею каралось более 160 видов преступлений. Неутомимость и трудоспособность Джефферсона позволяли ему заниматься еще и десятками менее важных дел: урегулированием территориальных споров с Пенсильванией, организацией первой исследовательской экспедиции вверх по реке Огайо, вакцинацией против оспы, проектами перемещения столицы в Ричмонд, созданием почтовой и статистической служб штата и многим другим.
Три года, проведенные в ассамблее Вирджинии, стали для Джефферсона одним из самых плодотворных и счастливых периодов его долгой жизни. Никогда больше его философские принципы и практическая деятельность на политическом поприще не сольются так гармонично. Он многого добился, еще больше было задумано, немногие неудачи пока не вызывали ожесточения, ибо в тихой Вирджинии он отлично ладил даже со своими оппонентами, а политические разногласия здесь не перерастали в личные распри. Вирджинский политик в нем отлично уживался с монтичелльским плантатором-философом, посвящающим досуг семье, музыке, сельскохозяйственным экспериментам, астрономическим и метеорологическим наблюдениям, переписке с учеными, разбивке оленьего парка и, конечно, постоянному строительству и усовершенствованию Монтичелло.
Разумеется, он находился далеко от центра событий, в которых решалась судьба только что рожденного государства, но его - человека сугубо штатского, любящего покой и уединение, такое положение вполне устраивало. Да он и не считал, что занят менее важными делами, укрепляя республиканские начала в своем штате. Людям, попавшим в самое горнило войны, очередность задач, естественно, представлялась иной. "Где Мэйсон, Уайт, Джефферсон, Николас, Пендлтон, Нельсон и другие?" - сердито допрашивал земляков Вашингтон.
Вдали от пота и крови войны Джефферсон взирал на нее философски, ведь "если и были сомнения в исходе, то они полностью рассеялись с вступлением в нее Франции", что же касается врага, то он "храбр и цивилизован". "Наши времена, - рассуждал он в письме другу, - счастливы тем, что бедствия войны смягчены утонченностью манер и чувства..." Гремевшая вдали война даже приносила покуда приятные сюрпризы. В начале 1779 года она забросила в Вирджинию так называемую "армию конвента" - около 4 тысяч пленных англичан и немецких наемников, среди которых немало было образованных офицеров-аристократов, украсивших светское общество Вирджинии. Наконец-то благодаря музыкальным немцам Джефферсон смог возобновить музицирование в любительском оркестре. Узы воспитания и интеллекта сильнее грубых страстей войны, казалось ему. "Великий спор, разделяющий наши страны, не должен разрешаться враждебностью личностей, - писал он тогда одному из пленных англичан генералу У. Филлипсу. - Гармония частного общения не может ослабить национальных усилий". Но вскоре война повернулась другой стороной.
1 июня 1779 г. Джефферсон был избран губернатором родного штата. Назначение почетное и заслуженное, но принял он его без большого энтузиазма, предчувствуя тяготы руководства в условиях военного времени. "Благодарю за поздравления, - отвечал он пленному барону Ридезелю, - хотя соболезнования были бы более уместны". Из привольной разреженной атмосферы Монтичелло Джефферсон попал в нескончаемую сутолоку административных дел, столкнувшись с морем проблем.
После неудач на севере англичане переносили военные действия на юг, и ко времени вступления Джефферсона в должность лишь полоска Северной и Южной Каролины разделяла Вирджинию и английскую армию генерала Корнваллиса. Еще более уязвимой Вирджиния была со стороны морского побережья: судоходные реки открывали вражеским кораблям и десанту удобный доступ к основным населенным пунктам, а своего флота у вирджинцев не было. Необученное и плохо вооруженное ополчение мало чего стоило в сравнении с регулярными войсками противника. Но организация обороны штата отступала на второй план перед еще более неотложными задачами, связанными с участием Вирджинии в обеспечении континентальной армии. Ее вклад продовольствием и людской силой систематически не дотягивал до установленных конгрессом норм. Отчасти это объяснялось инфляцией, не дававшей властям возможности скупать достаточное количество родовольствия и других видов снабжения. Отчасти - упорным сопротивлением населения сбору налогов для целей войны, начатой против тех же налогов, и откровенным нежеланием вирджинцев отрываться от насиженных мест ради службы в армии. Не прельщало даже щедрое вознаграждение добровольцам в виде 300 акров земли и здорового раба впридачу, установленное ассамблеей при Джефферсоне.
Мало того, сам государственный механизм штата оказался вовсе неприспособленным к условиям военного времени. Губернатор не мог принять ни одного мало-мальски важного решения без согласия ассамблеи, заседавшей всего четыре-пять месяцев в году; все остальное время его деятельность была скована советом, который должен был утверждать назначение губернатора, его решение о созыве ополчения и т. п. Распутать такой клубок проблем было не под силу даже человеку властному и решительному, а Джефферсон таким не был. Он до изнеможения завалил себя работой, отнесясь к ней со всей присущей ему серьезностью и педантизмом, но в то же время скрупулезно соблюдая все многочисленные ограничения губернаторских полномочий и инстинктивно чураясь экстренных мер. В известной мере он стал жертвой собственной ортодоксальной республиканской неприязни к сильной исполнительной власти.
Первые полтора года губернаторства прошли относительно спокойно, если не считать разгрома отряда генерала Гейтса под Камденом 16 августа 1780 г., в котором вирджинское ополчение показало себя "во всей красе". "После первого залпа, - отчитывался Джефферсон перед Вашингтоном, - противник пошел на ополчение в штыковую, и оно отступило в полном составе... Они бежали, подобно стремительному потоку, сносящему все на своем пути". Ополченцы в панике побросали оружие и теперь все - рекрутирование и вооружение - нужно было начинать сначала. А население встречало новые наборы в армию и реквизиции со все большей враждебностью. Когда в качестве крайней меры совет штата постановил реквизировать, что означало выкупить в принудительном порядке, каждую десятую голову скота, то губернатор получил жестокий выговор от одного из местных радикалов - Джорджа Мэйсона: "Население этой части Вирджинии настроено сделать все возможное для ведения войны, но те же принципы, которые привязывают его к американскому делу, одновременно побуждают сопротивляться несправедливости и угнетению". В самом деле, революция началась из-за меньшего! С осени 1780 года в отдельных графствах вспыхнули волнения и бунты против налогов, к которым вскоре добавился заговор лоялистов на юге штата, к счастью вовремя раскрытый.
Под тяжестью все возрастающих забот и неудач терпение губернатора иссякло. Он уже забыл дорогу в Монтичелло, забросил все научные занятия и едва успевал ежедневно замерять температуру воздуха. "Рвение, необходимое для обязанностей моего поста, настолько чрезмерно, а их исполнение в конечном счете столь несовершенно, что я твердо решил уйти в отставку к концу нынешней кампании", - пишет Джефферсон в октябре Ричарду Ли. Его коллеги, встревоженные перспективой избрания импульсивного Патрика Генри, уговорили его потерпеть хотя бы до конца срока в июне следующего года, невзирая, как писал Джефферсону Дж. Пейдж, на "спешку и бессмысленность, которым ежедневно подвергает вас ваше положение". Но именно эти последние полгода оказались для него роковыми.
Еще в октябре в Чезапикском заливе показались паруса английского флота под командованием командора Роднея. Родней поднялся по реке Джеймс до Суффолка, но затем внезапно ушел. Вскоре в Ричмонд - новую столицу Вирджинии прибыли очередной командующий армией Юга генерал Н. Грин и генерал-инспектор континентальной армии Фридрих фон Штебен. Штебен остался в Вирджинии для сколачивания регулярных отрядов в помощь армии Грина. Главное внимание по-прежнему уделялось сухопутному театру военных действий в Северной и Южной Каролине, Вирджиния же должна была оставаться арсеналом Юга. Но англичане не собирались терпеть это положение.
31 декабря Джефферсон получил известие о новом появлении английского флота у берегов Вирджинии. Сочтя это сообщение ненадежным, поскольку оно исходило от частного лица, губернатор не стал лишний раз созывать ополчение и ограничился посылкой к побережью своего агента. Эта ошибка дорого обошлась ему. 2 января сообщение подтвердилось: корабли англичан уже подходили к Джеймстауну. Джефферсон немедленно приказал созвать ополчение, но время было упущено. К 4 января в Ричмонд стянулось лишь 200 ополченцев из 4600. Англичане, подгоняемые попутным ветром, тем временем достигли Вестовера, расположенного в нескольких милях от столицы, и высадили там полуторатысячный десант. Оборонять город было бессмысленно, едва удалось вывезти военные склады и государственный архив.
Утром 5 января неприятель вступил в Ричмонд. К окончательному уничижению вирджинцев, им предводительствовал ненавистный предатель Бенедикт Арнольд. По пути он поджег оставшиеся склады, разрушил пушечный литейный цех и почти без потерь убрался восвояси. Наглый рейд Арнольда нанес ощутимый ущерб и помимо прямых потерь: созванное в Конце концов ополчение успело поглотить львиную долю продовольствия, предназначенного для армии Грина, нарушен был ход набора в южную армию; моральный дух населения сломлен, а власти - дискредитированы.
Горький опыт заставил Джефферсона на время расстаться с надеждами на ополчение. В марте он пытался склонить ассамблею к принятию плана Штебена о замене ополчения регулярными частями, но безрезультатно. Чтобы предотвратить повторение безнаказанной вылазки Арнольда, генерал-инспектор предложил поставить батарею на реке Джеймс ниже Ричмонда и запросил для этой цели полсотни землекопов. Ассамблея вопреки просьбам губернатора отказалась санкционировать это непосильное предприятие. В крайнем случае Штебен был готов удовлетвориться силами ополчения или рабов, но и здесь его подстерегала неудача. Джефферсон развел руками: "В соответствии с законами штата губернатор не властен заставить свободного человека работать - даже для общественных целей - без его согласия, равно как и раба без согласия его хозяина".
В такой ситуации даже неутомимый Штебен был бессилен что-либо сделать; набор ополченцев проваливался, реквизиция повозок, лошадей и продовольствия давала ничтожные результаты. "Мы можем нести ответственность лишь за приказы, которые отдаем, но не за их исполнение, - меланхолически разъяснял Джефферсон Штебену. - Если им не подчиняются из-за упрямства или недостатка принуждения в законах, это не наша вина". Трудно было бравому служаке Штебену, воспитанному в железных традициях прусской армии, постичь чудные правила ведения войны свободным народом Нового Света. "Если не будет найден способ наказания дезертиров и обеспечения выполнения приказов, - предупреждал он вирджинскую ассамблею, - если не удастся добиться предотвращения позорных уклонений и жульничества, которые, к бесчестью отдельных лиц, повторяются слишком часто и успешно, этот штат падет перед силой неприятеля или окажется всецело в зависимости от иностранной помощи".
Иностранная помощь в виде французского отряда под командованием маркиза Лафайета подоспела в середине апреля, как раз вовремя, чтобы отогнать части Арнольда и генерала Филлипса (бывшего пленного соседа Джефферсона), вновь поднявшиеся по реке до Ланкастера и Питерсберга. В лице маркиза Джефферсон обрел не только спасителя, но и друга на всю жизнь. Либерально мыслящий аристократ был так сочувственно великодушен и тактичен по сравнению с грубияном Штебеном! Он вполне входил в положение губернатора ("Мягкие законы, неприученный к войне и беспрекословному повиновению народ, недостаток военного снаряжения",- оправдывался Джефферсон) и всячески ободрял его: "Я уже давно привык к этим неудобствам, которые с лихвой восполняются бесчисленными благами народного правления". Бальзам на раны Джефферсона!
Тем временем Грин завершал свой злополучный маневр по отходу в Южную Каролину для заманивания туда армии Корнваллиса. Вместо этого Корнваллис двинулся в противоположном направлении - к Вирджинии и 20 мая соединился с частями Арнольда и Филлипса у Питерсберга. Теперь 7 тысячам англичан противостоял трехтысячный отряд маркиза. Джефферсону оставалось лишь взывать к помощи с Севера и надеяться на чудо - пришествие самого Вашингтона. "Присутствие любимого соотечественника.., - пишет он ему 28 мая, - вернет полную уверенность в спасении и подвигнет на все, что только возможно". Главной целью Корнваллиса было расправиться с отрядом Лафайета- "молокосос не уйдет!" - и окончательно подавить сопротивление Вирджинии. Лафайету удалось ускользнуть, но Корнваллис основательно проутюжил всю южную часть беззащитного штата.
Власти срочно эвакуировались в Шарлотсвиль, неподалеку от Монтичелло, Джефферсон с несколькими коллегами был уже дома, мысленно сложив с себя обязанности губернатора и дожидаясь только формальности - выборов 2 июня. Ввиду отсутствия кворума эта процедура была отложена на два дня - злополучное решение, ибо утром 4 июня у подножия Монтичелло показались бело-зеленые английские драгуны капитана Макклеода. Это было подразделение отряда полковника Тарлетона, посланного Корнваллисом специально для захвата вирджинских лидеров. Джефферсону положительно не везло: появись драгуны на день позже, они бы застали уже не губернатора, а просто частное лицо. К счастью, он был предупрежден заранее ополченцем Джоуэтом, который сумел опередить драгун. Это дало ему возможность неторопливо, с достоинством ретироваться и избежать унизительной участи некоторых вирджинских джентльменов - пленения в постели.
Этот эпизод, поданный как трусливое бегство, стал впоследствии неотъемлемой частью антиджефферсоновской легенды, созданной его противниками. По сути дела, они обвиняли его в том, как саркастически писал позднее сам Джефферсон, что, "забыв благородный пример героя Ламанчи с его ветряными мельницами, я уклонился от боя - один против целого войска". Аналогия была удачной, но гордиться происшедшим тем не менее тоже не приходилось. В довершение всего 12 июня ассамблея, избрав губернатором Т. Нельсона и наградив Джоуэта за расторопность именным оружием, в поисках "козла отпущения" за грехи штата приняла резолюцию о расследовании деятельности губернатора Джефферсона. Дело касалось в основном рейда Арнольда. И, хотя резолюция хода не получила, а в декабре та же ассамблея выразила Джефферсону благодарность за службу, это был завершающий и самый болезненный удар. Отдавший всего себя этой работе и чрезвычайно чувствительный к критике, Джефферсон был оскорблен на всю жизнь и надолго утратил былой вкус к политической деятельности.
Беда не приходит одна: экс-губернатор нашел свои плантации на реке Джеймс разоренными солдатами Корнваллиса; с англичанами бежало около 30 рабов, уничтожен был весь урожай табака. Состояние здоровья его жены, беременной шестым ребенком, катастрофически ухудшалось. Вскоре он отказался от места в ассамблее штата, куда был вновь переизбран. Письмо юному коллеге Джеймсу Монро раскрывает мучительное состояние его души, в которой самоунижение боролось с ужаленным самолюбием. "Постоянно принося в жертву время, труд, родительский и дружеский долг, я был так далек от завоевания признательности своих соотечественников - единственной желанной для меня награды, что утратил даже ту репутацию, которую имел". Злополучное расследование, продолжает он, "нанесло моему духу рану, которую излечит лишь все исцеляющая могила". "Я исследовал свое сердце, чтобы узнать, навсегда ли оно освободилось от остатков политического честолюбия, не притаились ли в нем крупицы амбиции, которые могли бы беспокоить меня в обыкновенной частной жизни. И убедился в том, что теперь совершенно свободен от этой страсти".
Он отказался и от более почетного назначения в состав дипломатической миссии на мирные переговоры вместе с Франклином, Джеем и Г. Лоуренсом. "Я навсегда расстался со всем этим, - писал он президенту конгресса Э. Рэндольфу, - и удалился к своей ферме, семье и книгам, с которыми, надеюсь, меня уже ничто никогда не разлучит".
* * *
Уход Джефферсона с политической арены, возмутивший его друзей, отчасти обернулся благом, ибо именно в это нелегкое для него время он создал самое крупное свое произведение - "Заметки о штате Вирджиния". Непосредственным поводом к тому послужил запрос секретаря французского посольства Ф. де Марбуа, собиравшего сведения о всех штатах, сделанный еще в 1780 году. Тогда же Джефферсона избрали в Американское философское общество - единственное научное общество в Америке тех лет. Для ученого-любителя, каким он и сам себя считал, это избрание было почетным и обязывающим. Вероятно, еще и поэтому он с таким жаром ухватился за предложение Марбуа, рассматривая свой будущий труд как "вступительный взнос", подтверждающий его научную репутацию. "Ваш труд, - писал ему активист философского общества Ч. Томпсон, - будет желанным подарком... Страна наша открывает обширное, богатое и неизученное поле для философского исследования". Это было заветным убеждением и самого Джефферсона. Ответы на 23 вопроса де Марбуа вылились в трактат о 300 страницах - настоящую энциклопедию о Вирджинии. Джефферсон написал черновик еще летом, прикованный к постели после неудачного падения с лошади, и закончил труд в Монтичелло к концу 1781 года.
На первый взгляд, джефферсоновские "Заметки" покажутся современному человеку чем-то вроде старинного путеводителя по штату, но в конце XVIII века это было первое универсальное научное описание Вирджинии. Джефферсон разбил вопросы Марбуа на предметные группы: вначале все относящееся к естественной, как тогда ее называли, истории: природные условия, флора, фауна; затем - к истории гражданской: конституция, законодательство, религия, и, наконец, нравы и обычаи. Проследуем вместе с автором по страницам его книги, которая рассказывает о самом Джефферсоне не меньше, чем о его родине.
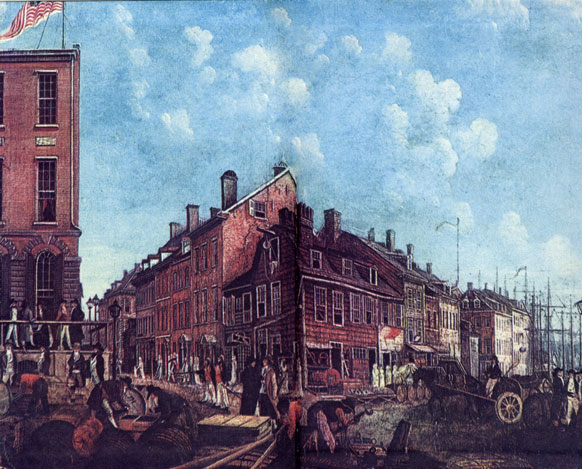
Уолл-стрит в конце XVIII века
В первой части он скрупулезно описывает все основные реки, водопады, рельеф, растительный мир и пр. Но даже это фактическое изложение пронизано любовью и гордостью за свой край, ведь Огайо - "самая прекрасная река на свете", а естественный каменный мост на территории его собственных владений "словно стремится в небеса! - живописует Джефферсон. - Восторг наблюдателя просто невыразим". Ученый-патриот, естественно, не может оставить без ответа модные тогда в Европе теории дегенерации всего живого в Новом Свете, поддерживаемые даже такими крупными зоологами, как француз Бюффон, который, в частности, с уверенностью неосведомленного писал, что "животворные силы воздуха и земли в Америке" ввиду обилия "влажных и ядовитых паров" "воспроизводят лишь влаголюбивые растения, земноводных, а также насекомых и могут обеспечить пропитанием только холоднокровных людей и хилых животных". Джефферсон почтительно, но решительно вступает в полемику с маститым ученым. "Белый медведь в Америке не меньше европейского", - утверждает он. С особенным патриотическим пылом описывает Джефферсон кости мамонта, этого "крупнейшего обитателя земли", найденные, по слухам, где-то на реке Огайо.
Несмотря на полемические преувеличения, Джефферсон в этом споре оказался выше Бюффона. С еще большей горячностью автор отстаивает человеческую породу Нового Света, начиная с "живых умом", "смелых" и "привязанных к своим детям" индейцев и кончая бледнолицыми титанами мирового масштаба - Вашингтоном, Франклином и астрономом Ритенхаузом. Чтобы поставить все точки над "i", увлекающийся вычислениями Джефферсон производит несложный подсчет: "Соединенные Штаты имеют 3 миллиона жителей, Франция - 20, Британские острова - 10 миллионов. Мы произвели Вашингтона, Франклина и Ритенхауза. Франция, следовательно, должна иметь полдюжины таких в каждом из трех видов деятельности, а Великобритания - вполовину меньше". Что касается Франции, рассуждает он далее, то "у нас есть основания полагать, что она способна произвести полную квоту своих гениев", а вот с Великобританией дело хуже: "Солнце ее славы опускается к горизонту; ее философия пересекла канал, ее свобода - Атлантический океан, а сама она, по-видимому, приближается к состоянию полного распада..." Патриотизм Джефферсона, его ревнивая гордость за свою молодую страну при всей наивности неподдельны и даже трогательны.
Интересны его комментарии по поводу государственного устройства штата, в которых Джефферсон несколько видоизменяет свои прежние взгляды, ибо "это устройство создавалось в период, когда мы были еще новичками и не имели опыта в науке правления". Чему же опыт правления научил бывшего губернатора? Помимо тех недостатков, которые он и прежде находил в конституции, появляются новые. Еще более сердито нападает он на сходство палаты депутатов и сенат, который "избирается одними и теми же избирателями и из одних и тех же граждан; выбор падает, конечно, на людей одинакового свойства. Цель учреждения различных законодательных палат - ввести влияние различных интересов и принципов... Из деления нашей законодательной власти на две палаты мы не извлекаем тех выгод, которые может дать столкновение принципов и которые способны компенсировать зло, возникающее в результате этих разногласий".
С другой стороны, проученный неуправляемой и своенравной ассамблеей, Джефферсон начинает усматривать важнейший недостаток конституции в деспотизме законодательной власти: "Если власть находится в руках нескольких лиц, а не кого-то одного - легче не становится: 173 деспота, несомненно, будут угнетать народ так же, как и один... Выборный деспотизм - это не та форма правления, за которую мы боролись. Мы стоим за правительство, которое не только должно быть основано на принципах свободы, но в котором правительственная власть была бы так разделена и уравновешена между несколькими органами, чтобы ни один из них не мог превысить свои правовые полномочия ввиду действенного контроля и ограничений со стороны других властей". Он также предлагает усилить полномочия исполнительной власти и продлить срок службы губернатора от одного до пяти лет - знакомые уже сентенции в пользу разделения властей, системы "сдержек и противовесов". Под давлением обстановки Джефферсон вместе с большинством буржуазных лидеров явно двигался в сторону более стабильного и энергичного правления, хотя и не так решительно, как "националисты".
От описания Вирджинии действительной Джефферсон переходит к описанию Вирджинии идеальной и подробно разъясняет смысл разработанных им реформ. Особый интерес представляет раздел о рабстве, в котором отчетливо проглядывается противоречивость взглядов молодого мыслителя.
По свидетельству автора, им был подготовлен проект освобождения рабов, который планировалось предложить в качестве поправки к новому своду законов. Суть его состояла в освобождении рабов по достижении совершеннолетия и поселении их на отдаленных незанятых землях, с тем чтобы "объявить их свободным и независимым народом, предоставить свою помощь и защиту, пока они не окрепнут...". А на их место призвать "за надлежащее вознаграждение" белых поселенцев. "Этот план так и не был предложен, - добавит позднее Джефферсон в автобиографии, - так как обнаружилось, что общественность еще не сможет воспринять его", но "недалек тот день, когда она должна будет его переварить и принять, иначе последует нечто худшее. Ничто не записано в книге судеб с такой определенностью, как-то, что этот народ должен быть свободным..."
Эти и подобные им высказывания принесли Джефферсону громкую, но незаслуженную славу борца за освобождение и права негров, чуть ли не первого аболициониста Америки. Да, просвещенный гуманист отлично сознает абстрактную аморальность рабства и принципиальную необходимость его ликвидации. Но почему так ничтожны его практические усилия в этом направлении? Почему он не освобождает своих собственных рабов при жизни, как это сделал его земляк У. Мифлин, или хотя бы после смерти - по примеру Вашингтона? Почему, говоря словами Г. Аптекера, "рука, написавшая Декларацию независимости, подписывала объявления о поимке беглых рабов", коих, по словам самого Джефферсона, "жестоко секли в присутствии их прежних товарищей?" Почему, пересматривая законодательство Вирджинии, он лишь усилил его жестокость по отношению к рабам: отныне каждый освобожденный раб или белая женщина с ребенком от негра должны были покинуть штат в течение года под страхом объявления вне закона?
Почему, будучи губернатором, он одобрил запрет на участие негров в ополчении? Почему упорно отказывался вступать в аболиционистские общества в США и за границей и публично поддерживать противников рабства? Почему, наконец, во всех его писаниях мы не найдем и следа чувства личной вины за это гнусное явление?
Ответы на все эти вопросы нужно искать в самой личности Джефферсона. Выдающийся просветитель в нем причудливо сочетался с вирджинским плантатором и политиком. Постоянное переплетение этих трех ролей - ключ ко всей деятельности и мировоззрению Джефферсона. Но особенно противоречивый эффект дает их наслоение в его отношении к рабству.
Как плантатор он видит в чернокожих необходимую производительную силу сродни рабочему скоту, лишенную высоких человеческих качеств, но нуждающуюся в заботе. Сообщая своему другу - плантатору Дж. Тэйлору о планах разведения картофеля, клевера и овец, он уточняет: "Первые два - для прокормки всей живности на ферме, кроме моих негров, и последние - для них". Заботится он и о том, чтобы черные рабыни вовремя кормили своих детей, выговаривая управляющему за то, что молодые матери перегружены работой: "Я ставлю труд кормящей матери выше прочих, ибо дитя, производимое каждые два года, дает больше прибыли, чем урожай у лучшего работника. Здесь, как и в других случаях, провидение соединяет наш долг и интерес в единое целое... Очень прошу вас внушить надсмотрщикам, что мы заинтересованы прежде всего в их размножении, а не работе". Здоровый молодой негр во времена Джефферсона стоил около 400 долларов.
Энциклопедическая образованность не помешала Джефферсону усвоить все предрассудки своего сословия относительно "неполноценности" черной расы. В "Заметках" они проступают с пугающей наглядностью. В доказательство "неполноценности" приводится цвет кожи - "эта неподвижная черная маска", так непохожая на "чудесное смешение белизны и румянца" арийцев, способное "передать любое чувство", "курчавые волосы", "менее элегантное сложение" и т. п.
От физической "неполноценности" - "неполноценность" умственная: в разуме они "намного слабее белых", воображет ние их "уныло, безвкусно и ненормально", "не требуют столько же сна", но зато "предрасположены к нему больше, чем белые"; их храбрость проистекает, видимо, от недостатка "предусмотрительности", их любовь - "скорее простое физическое влечение, нежели тонкая смесь чувств и ощущений"; причины всего этого коренятся не в условиях их жизни, а в самой природе черной расы, ибо, живя в Америке, "они могли бы воспользоваться примером общения своих хозяев". Ученый-натуралист говорит здесь явно с акцентом рабовладельца.
Убежденность во врожденной "неполноценности" черной расы служила для Джефферсона и других рабовладельцев своего рода психологической защитой, ибо, как резонно отметил один из современных американских исследователей проблемы, "если бы Джефферсон думал, что он и его земляки-вирджинцы содержат в рабском и забитом состоянии тысячи потенциальных поэтов, ученых, философов и писателей, он не смог бы даже на время примириться с существованием рабства".
Как и всякий политик-южанин, за исключением, пожалуй, "отца страны" - Вашингтона, Джефферсон практически никогда не переходил пределов дозволенного неписаными, но свято соблюдаемыми законами политической жизни Юга. Важнейшим из них являлась неприкосновенность системы рабовладения, пронизывающей всю жизнь плантаторского общества. В годы борьбы за независимость, которая велась ^под лозунгами свободолюбия, лидеры Юга в контактах с нерабовладельческим Севером и антирабовладельческой союзной Францией волей-неволей присоединились к хору осуждающих рабство. Однако при этом они всегда помнили, что у себя дома такие речи, не говоря уже о делах, навсегда закроют перед ними политическую, да и всякую иную карьеру.
Зловещим предупреждением отступникам стала среди других трагическая история учителя Джефферсона - Джорджа Уайта. Он не только завещал освободить рабов после своей смерти, но и оставил своей черной наложнице-домоуправительнице и своему сыну от нее половину собственного состояния, а Джефферсона назначил опекуном сына - мулата. Узнав об этом, другой наследник - племянник Уайта в отместку отравил дядю. Слуги отлично знали это, но их свидетельские показания в суде против белого человека по разработанному Джефферсоном кодексу штата не имели силы. Поэтому суд не только оправдал убийцу одного из лучших сынов Вирджинии, чья подпись стояла под Декларацией независимости, но и не посчитался с его последней волей и опекунством Джефферсона. А опекун и не подумал вмешаться. Так белая Вирджиния карала преступивших грань, и в этой обстановке даже самые совестливые вирджинцы предпочитали держать язык за зубами, изредка терзаясь угрызениями совести. Вот, например, выразительная исповедь самого "звонаря революции" Патрика Генри в письме другу: "Разве не поразительно, что в наше время, когда права человека определены и признаются с такой ясностью, в стране, более других любящей свободу, мы встречаем людей, исповедующих самую гуманную, мягкую и великодушную религию и в то же время соглашающихся с принципом, противным человеколюбию, несовместимым с библией и разрушающим свободу?.. Кто поверит, что я сам - хозяин рабов, мной же купленных? Меня вынуждает общее неудобство местной жизни без них. Я не буду и не могу оправдываться... Как бы ни было преступно мое поведение по критерию собственной честности и высоких стремлений, я, сожалея о своей недостаточной верности им, все же верю, что настанет время, когда представится возможность для уничтожения этого прискорбного зла". В ожидании этого счастливого будущего Генри продолжал эксплуатировать рабов, скупать землю и сколотил в конце концов изрядное состояние.
Но у Джефферсона не найти даже подобного чувства личной вины. Как заметил современный американский историк Р. Макколи, Джефферсон, по-видимому, охотно принимал ограничения, накладываемые на него как на вирджинского деятеля, ибо он был привязан к рабству в своей личной жизни так же, как и вынужденно связан с ним в общественной". Как и Патрика Генри, его "принуждало неудобство здешней жизни" без рабов - и даже больше, ибо владелец Монтичелло жил на широкую ногу по сравнению с большинством плантаторов его ранга. Весь очаровательно-комфортабельный, столь любимый Джефферсоном мир Монтичелло с его садами, оранжереями, конюшнями, французской кухней и пр. покоился на рабском труде. Одних только домашних слуг держалось около 25. Руки рабов стирали для него границу между замыслом и его воплощением; даже когда он писал друзьям о том, что сажал оливки или цветы, это еще вовсе не значило, что он сам брал в руки лопату.
Кроме того, существовала спасительная цепочка неких презумпций: о том, что рабство ввели англичане, а на долю американцев досталось "бремя белого человека" - поддерживать существование "неполноценной расы"; о том, что ее освобождение - дело слишком сложное и рискованное, и т. п.
Даже в своих эмансипаторских планах, если приглядеться к ним повнимательнее, Джефферсон исходил не столько из сочувствия к черным, сколько из интересов самой белой Вирджинии. Освобождение негров он признавал только вкуке с депортацией, так как боялся смешения двух свободных рас ввиду "соображений физического, морального и политического порядка". "Глубоко укоренившиеся предрассудки, свойственные белым; десятки тысяч воспоминаний о несправедливостях, перенесенных черными; новые провокации; реальные различия, созданные природой, и много других обстоятельств будут делить нас на два лагеря и вызовут такие общественные потрясения, которые, возможно, окончатся не иначе как истреблением той или иной расы", - мрачно пророчествовал он.
Борьба Джефферсона за запрещение работорговли, поддерживаемая всей плантаторской верхушкой штата, являлась лишь выражением стремления Вирджинии ограничить прирост своего негритянского населения. К тому времени вирджинцы полностью обеспечили себя рабами местного происхождения, и их избыточный ввоз мог лишь сбить прибыльные цены на "черный товар" и увеличить опасность бунтов: рабы, выращенные в Америке, были куда покорнее коренных африканцев.
Даже искренняя озабоченность Джефферсона разлагающим влиянием рабства вызывалась прежде всего заботой о морали белого населения. С каким чувством и знанием дела он описывает в "Заметках" развращающее воздействие рабства на психику белого ребенка! "Родитель дает волю взрыву своих чувств, ребенок наблюдает, подхватывает выражение гнева, напускает на себя такой же грозный вид в кругу маленьких рабов, начинает бушевать; воспитанный и взлелеянный в таком духе, ежедневно упражняясь в тирании, ребенок неизбежно воспринимает ее во всех отвратительных проявлениях". А ведь "с гибелью моральных устоев народа сводится на нет и его трудолюбие. Так, в жарком климате никто не станет работать на себя, если можно заставить работать на себя другого".
Этих соображений в сочетании с естественноправовыми было более чем достаточно для признания необходимости ликвидации позорного института, но центр тяжести джефферсоновского плана эмансипации лежит не в освобождении рабов от цепей рабства, а в избавлении от его заразы белых сограждан. Нужно ли говорить, что он был вопиюще нереален? Даже с технической стороны дела депортация сотен тысяч черных была чрезвычайно громоздким и дорогостоящим предприятием, а главное - она подорвала бы всю плантационную систему Юга. "Здесь перед нами капиталисты, строящие свое хозяйство на рабском труде негров", - подчеркивал К. Маркс.
Этот разительный утопизм был логическим выражением противоестественного компромисса между плантатором и гуманистом в душе Джефферсона. Мучительность этой дилеммы можно представить. "Мы держим волка за уши и не можем ни удержать, ни отпустить его, - писал он позднее. - На одной чаше весов - справедливость, на другой - самосохранение". Но для него в конечном счете перевешивало все-таки самосохранение, которое означало сохранение общественного порядка, основанного на рабстве.
Но не слишком ли мы строги к Джефферсону? Мог ли он выйти за пределы, установленные временем, местом и условиями его жизни? Во всяком случае от выдающегося просветителя, начертавшего в Декларации независимости "Все люди сотворены равными" и далеко обогнавшего свою эпоху во многих других вопросах защиты прав личности, мы вправе были бы ожидать меньше покорности среде. К тому же пределы эти всегда подвижны. Они были раздвинуты аболиционистами Новой Англии - такими как Франклин, Дж. Джей и А. Гамильтон; последовательными противниками рабства в самой Вирджинии - Мифлином, Коулзом и др., сумевшими "превозмочь неудобства жизни" без рабов, дав им волю. Близкие друзья Джефферсона Б. Раш и Д. Ритенхауз считали слияние рас возможным; вирджинские квакеры устраивали для освобождаемых ими рабов школы и мастерские. Джефферсон был позади.
* * *
Рассмотрев историю и современное состояние родного края, Джефферсон не мог удержаться, чтобы не заглянуть в будущее и не поразмышлять о путях развития Америки. Он опьянен безграничными возможностями мирного развития, открывающимися перед огромной молодой страной: "Покончив с нынешней войной и долгами, которые она нам навяжет, мы сможем помериться силами с любой европейской державой, хотя будем стремиться свести к минимуму такую практику. Будучи так молоды и обладая столь обширной страной, чтобы заселить ее народом и наполнить счастьем, мы направим на это все производительные силы природы, не растрачивая себя на попытки взаимного уничтожения в борьбе с другими народами. Наше стремление должно будет заключаться в развитии мира и дружбы со всеми странами".
Вера в грядущее величие Америки была естественным чувством участников революции, в котором они черпали вдохновение и необходимое ощущение непреходящей важности осуществлявшихся преобразований. Но какое конкретное содержание вкладывал в него Джефферсон? История давала его поколению уроки неустойчивости всякого правления, показывала примеры естественной тенденции всех существовавших до того обществ к упадку. "Любое правительство в мире, - пишет он, - проявляет некоторые черты человеческой слабости, имеет хотя бы в зародыше коррупцию и вырождение... Каждое правительство идет к вырождению, если доверяется одним лишь правителям". Какой же выход? "Именно народ является единственным надежным хранителем справедливого правительства. И чтобы сделать народ также надежным, необходимо в какой-то степени усовершенствовать его дух... Только нравы и дух народа сохраняют республику в силе". Главную задачу в создании идеального общественного устройства, свободного от крайностей классовой борьбы, Джефферсон, в отличие от Мэдисона и Гамильтона, видит не в создании какой-то сложной и громоздкой государственной структуры, а в соответствующем типе экономических отношений и поведения самого народа, который бы снял саму проблему столкновения общественных интересов. Такой тип поведения, по его мнению, может выработать лишь строй мелких собственников-фермеров. Джефферсону, в отличие от физиократов, обосновывавших достоинства сельского хозяйства прежде всего с точки зрения экономической эффективности, важнее всего его социально-политические и моральные преимущества. Об этом - знаменитый панегирик фермерству в "Заметках о штате Вирджиния": "Те, кто трудится на земле, - избранники бога, если у него вообще могут быть избранники, души которых он сделал хранилищем главной и истинной добродетели... У людей, занятых возделыванием земли, примера разложения нравственности найти нельзя - ни у одной нации, ни в какие времена. Этой печатью отмечены те, кто, не глядя на небо, на свою собственную землю и не трудясь, как землепашец, ради своего пропитания, зависит в своем существовании от случайности и каприза покупателей. Такая зависимость порождает раболепие и продажность, душит добродетель в зародыше и подготавливает удобные орудия для свершения злых умыслов... Вообще в любом государстве соотношение между земледельцами и другими слоями населения - соотношение между здоровой и гнилой частью государства - является достаточно хорошим барометром для измерения степени его разложения". Главным, неотразимым преимуществом фермерской идиллии являлась высокая политическая стабильность, ибо "каждый благодаря собственности, которой он владеет, или в силу своего удовлетворительного положения заинтересован в поддержании законов и порядка". Это как бы локковская триада ("жизнь - свобода - частная собственность") в действии, из которой собственность уже не вычеркнуть. Не имеющая собственности, а значит, и заинтересованности в сохранении существующего порядка вещей "городская чернь", "лишенная человеческого достоинства из-за невежества, нищеты и пороков", есть опасный балласт общества, гнилая его часть. "Филиппики" Джефферсона в адрес "мятежной городской черни" по своему пафосу не уступают гамильтоновским циничным тирадам, полным презрения к плебсу.
Главная же причина оптимизма Джефферсона в отношении будущего Америки коренится в том, что именно обилие свободных земель служит спасительным резервом для сохранения и расширения фермерской республики. "У нас есть огромные земельные просторы, где земледелец мог бы проявить свое трудолюбие... Поскольку у нас есть земля, на которой можно трудиться, пусть никогда наши граждане не встанут к станку и не сядут за прялку. Плотники, каменщики, кузнецы нужны сельскому хозяйству. А что касается общих производственных операций, то пусть наши мастерские останутся в Европе. Лучше везти туда продовольствие и материалы, чем доставлять оттуда рабочих с их нравами и обычаями...".
Впрочем, оптимизм Джефферсона был весьма относительным: даже в Америке земельные ресурсы не беспредельны, и в долгосрочном плане любое аграрное общество обречено на перенаселение и деградацию. Не случайно Джефферсон с таким пристальным вниманием относился к учению Мальтуса.
Перспектива массовой иммиграции в Америку пугает его: пришельцы "принесут принципы своего правления, усвоенные в ранней юности, а если и сумеют от них избавиться, то в обмен на ничем не сдерживаемую мятежность... Соответственно своей численности они будут участвовать в осуществлении законодательства. Они внесут в общество свой дух, исказят его направление и превратят его в разнородную, бессвязную и расстроенную массу". Таким предстает идеал Джефферсона: аграрная мирная фермерская республика, свободная от резких классовых различий и конфликтов, от крайностей рабства и засилья "искусственной аристократии"; заповедник свободы, надежно застрахованный от внутреннего разложения и тлетворного воздействия Старого Света. Джефферсон стал певцом аграрной демократии не только потому, что она теоретически представлялась ему единственной альтернативой неустойчивой буржуазно-промышленной цивилизации, но и потому, что его практический жизненный опыт доказывал осуществимость этого идеала при условии некоторой реформации. Фактически его представление о будущем страны было идеализированным образом Вирджинии, сложившимся под влиянием аграрного уклада жизни и философии Просвещения в обстановке изоляции от внешнего мира, вдалеке от эпицентра большой политики в самой Америке. Что-то будет с этим идеалом дальше?
* * *
Пока что Джефферсон отправил готовые "Заметки" де Марбуа, оставив около полдюжины копий для ближайших друзей. Он не хотел публиковать свою книгу, дабы не раздражать понапрасну Вирджинию проектами ликвидации рабства и реформы конституции. Ее первое американское издание появилось, помимо воли автора, только в 1788 году. С самого начала книга имела большой успех среди окружения Джефферсона и окончательно установила его научную и литературную репутацию.
Но недолго суждено было ему наслаждаться радостями уютной домашней жизни. С мая 1782 года после рождения очередного ребенка Марта тяжело заболела. Три месяца Джефферсон не отходил от ее постели, а 6 сентября в его конторской книге появилась скупая запись: "Моя дорогая жена умерла сегодня в 11 часов 45 минут пополудни".
О Марте Джефферсон мы знаем только то, что она была мягкой, преданной и очень любила музыку. За 10 лет замужества она родила шестерых детей, из которых выжили только двое, и частые тяжелые роды сломили ее, как это нередко случалось в те времена. Джефферсон мучительно переживал ее кончину и на всю жизнь остался верен ее памяти.
Поначалу домоседу и однолюбу жизнь, так тщательно продуманная и налаженная, казалась безнадежно разбитой. "У меня был разработан план жизни - я предавался радостям отставки и связывал все расчеты на будущее счастье с домашними и литературными делами. Одно-единственное событие перечеркнуло все мои планы и оставило меня перед пустым листком, который у меня не хватает духа заполнить", - писал Джефферсон в ноябре 1782 года де Шателье. Первый месяц после смерти жены он почти не выходил из своей комнаты, второй провел в одиноких прогулках по окрестностям, почти не общаясь с внешним миром,
Из этого оцепенения Джефферсона вывело повторное назначение его полномочным посланником на мирные переговоры в Париж. Для Джефферсона, чахнувшего в опустелом Монтичелло и еще не готового к обычной политической деятельности, это оказалось спасительным предложением, и он его принял. Правда, попал он в Париж только через полтора года: сначала льды, потом опасность английского плена и, наконец, известие о подписании предварительных условий мирного договора с Англией отложили его миссию. Но главное было достигнуто - Джефферсон возвращался к жизни.
Во время вынужденного ожидания в Филадельфии он с увлечением посещает заседания Философского общества и завязывает тесную дружбу с Джеймсом Мэдисоном, знакомым ему еще по вирджинской ассамблее. Мэдисон возбудил интерес к политике и ввел в курс злободневных проблем. Он обладал как раз теми качествами, которых порой недоставало Джефферсону: целеустремленностью и неутомимостью закаленного политического бойца; глубокими познаниями в государствоведении, неизменным хладнокровием и взвешенностью суждений. Кроме того, он был лично предан своему земляку. Вместе они составили могучий политический тандем, сыгравший важную роль в истории страны.
Вернувшись в апреле в Вирджинию, Джефферсон уже не ищет уединения. По совету Мэдисона он включился в активную кампанию за усиление полномочий государства, в первую очередь предоставление ему права учреждения таможенных пошлин.
Он также пытается, правда, безуспешно, видоизменить конституцию штата в духе своих предложений. А в июне ассамблея вновь избирает его делегатом на континентальный конгрессу на этот раз Джефферсон не отказывается.
Конгресс в ту пору недаром окрестили "бродячим". Филадельфия, Принстон, Аннаполис-он менял местопребывание так часто, что Джефферсон с трудом настиг его лишь в последней точке. Он не узнал конгресса, в котором работал семь лет назад: иной дух, иные лица; да и трудно было назвать континентальным конгрессом эту кучку делегатов, число которых редко достигало 14 человек - необходимого минимума для принятия даже второстепенных решений. "За три последние недели, - сообщил Джефферсон Мэдисону в феврале, - мы не заседали и трех дней". Но даже наличие кворума не решало дела, ибо любой из этих 14, жаловался он Э. Рэндольфу, "в случае расхождения с остальными мог сорвать голосование". К этому прибавлялась некомпетентность второразрядных политиков, преобладавших в конгрессе после "бегства националистов". "Наш орган был невелик, но очень сварлив", - вспоминал Джефферсон в автобиографии, - день за днем уходили на обсуждения самых незначительных вопросов". Между тем перед законодателями стояли важные и неотложные задачи: ратификация мирного договора с Англией, определение статуса западных земель, заключение торговых договоров, создание сети арсеналов и крепостей, а также денежной системы. Джефферсон с его опытом и чувством ответственности быстро занял в конгрессе внешне неприметное, но влиятельное положение и сделал больше, чем кто-либо другой, для решения многих из этих проблем.
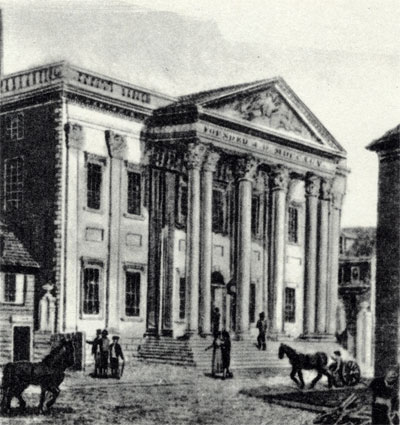
Банк Соединенных Штатов в Филадельфии
Ратификация долгожданного мирного договора с Англией оказалась для конгресса едва ли не столь же непосильным делом, как и ведение самой войны. Хотя текст договора был получен еще в середине ноября, а по его условиям обмен ратификационными грамотами должен был завершиться не позднее 3 марта (т. е. в течение полугода после его подписания), к январю в конгрессе было представлено лишь 7 штатов вместо требуемых 9 из 13, а нового пополнения ввиду зимних холодов уже не ожидалось. Джефферсон, на долю которого выпало представлять договор на рассмотрение конгресса, в отчаянии предложил частичную ратификацию семью штатами с последующей досылкой остальных документов. Других осенила идея собраться в Филадельфии у постели больного делегата от Северной Каролины Р. Бересфорда. Но вдруг 13 января в Аннаполисе объявились двое презревших стужу делегатов от Коннектикута, а на следующий день туда прибыл и выздоравливающий Бересфорд. Конгресс немедленно проштамповал договор, а Джефферсон составил публичное заявление по поводу ратификации: "Прочность федеральных уз, определяющая наше существование как независимого народа, - говорилось в ней, - теперь общеизвестна и признается странами мира". Так перо Джефферсона известило мир о начале и завершении борьбы за независимость.
Тогда же он попытался укрепить прочность "федеральных уз", предложив создать "видимого главу государства" - постоянный исполнительный орган конфедерации на периоды между заседаниями конгресса. Такой орган в урезанном виде был создан, но вскоре развалился под действием внутренних раздоров. Урок этот не прошел бесследно. Более удачной стала реформа монетной системы, предложенная Джефферсоном. Здесь царил великий хаос, так как каждый штат имел свою денежную единицу, а основной запас звонкой монеты в обращении составляли монеты иностранного происхождения, имевшие различную стоимость в разных районах страны. Первый проект единой монетной системы принадлежал Роберту Моррису. В ее основу он положил новую денежную единицу, составлявшую 1/1440 часть доллара, исчисленную как наименьшее общее кратное денежных единиц всех штатов. Это давало возможность унифицировать монетную систему без ломки систем штатов, но требовало от населения незаурядных математических способностей, свойственных разве только торговцам. Буханка хлеба стоила, к примеру, 575, а галлон виски - 2880 новых единиц.
Для философа-утилитариста выбор был кристально ясен: "Во всех случаях, когда мы можем выбирать между легким и трудным способами действия, наиболее разумно избрать легкий". Джефферсон предложил десятичную систему, основанную на долларе, ибо "каждый знает легкость десятичного счета". Его план был принят конгрессом и реализован уже при казначее Гамильтоне. С легкой руки Джефферсона Соединенные Штаты первыми в мире официально установили десятичную монетную систему, действующую и по сей день. Великий рационалист замахнулся и на систему мер и весов, но не смог одолеть английской традиции, от которой его соотечественники не могут избавиться до сих пор.
В составе специального комитета Джефферсон много сделал и для выработки инструкций представителям США за рубежом о принципах заключения торговых договоров с иностранными государствами. Но главные его силы были отданы другой проблеме - заселению западных территорий страны.
Огромные пространства свободных земель на Западе давно манили землевладельцев и спекулянтов всех рангов. Метрополия всячески сдерживала эту экспансию, но в ходе борьбы за независимость барьеры рухнули, и неутомимые пионеры-фермеры, обгоняемые спекулянтами, устремились на запад по рекам Огайо, Кентукки и Кэмберленд. Стремительное стихийное заселение Запада ставило перед конгрессом неотложные задачи по узаконению захвата земель: урегулирование отношений с их коренными обитателями - индейскими племенами (т. е. определение наилучшего способа их выживания), разработка единой системы межевания и продажи этих земель, а главное - определение их государственно-административного устройства. Последняя, самая сложная задача была поручена комитету во главе с Джефферсоном.
Освоение Запада было его давней мечтой, в которой воплощался политический идеал свободной и неуклонно расширяющейся фермерской республики. Мотивы эти получили яркое отражение в проекте. Главная его идея заключалась в создании на западных территориях новых республиканских штатов, принимаемых в союз на равных правах со старыми. То, что сегодня кажется естественным, тогда с трудом пробивало себе дорогу. Далеко не все в конгрессе разделяли веру Джефферсона в способность анархичных и неотесанных пионеров к самоуправлению. А он предлагал с самого начала предоставить право голоса всем свободным мужчинам! Джефферсон разбил всю западную территорию, ограничиваемую на западе рекой Миссисипи, а на севере и юге - канадской и испанской границами, по географической сетке параллелей и меридианов на четырнадцать штатов и даже дал им названия - Метропотамия, Полипотамия, Пелипсия, Мичигания, Иллинойя и т. п. План предусматривал и запрещение рабства на этих территориях. Можно представить, с каким воодушевлением проектировал Джефферсон будущую обетованную землю белых фермеров!
Его план оказал большое влияние на принятый конгрессом земельный ордонанс 1785 года и дополнивший его через два года так называемый Северо-Западный ордонанс. Отвергнутыми оказались наиболее радикальные предложения об отмене рабства и предоставлении земель поселенцам мелкими участками. Не уцелели и названия новых штатов: недалекие конгрессмены не поняли глубокого смысла историко-лингвистических упражнений автора, с помощью которых он утверждал преемственность республиканской традиции античности с американской демократией. Что касается пункта о запрете рабства, для его принятия не хватило всего одного голоса - Дж. Бетти, делегат Нью - Джерси, настроенный в пользу проекта Джефферсона, заболел и тем определил исход голосования. "Голос одного-единственного человека... мог бы помешать этому отвратительному преступлению распространиться на новые территории, - сетовал впоследствии Джефферсон. - Судьба нерожденных еще миллионов висела на языке одного человека, и небеса безмолвствовали в этот ужасный момент!"
Вместе с тем принятые законы сохранили такие важные черты первоначального джефферсоновского проекта, как принцип республиканского устройства новых районов и постепенного доведения их до статуса равноправных штатов, а также сам метод проведения границ между штатами по параллелям и меридианам.
Внушительными оказались итоги годичного пребывания Джефферсона в конгрессе. Столь высокая интеллектуальная производительность была бы немыслима без делового, конструктивного подхода. В отличие от "националистов", предавших конфедерацию анафеме под девизом "чем хуже, тем лучше", Джефферсон спокойно трудится, делает все возможное в конгрессе, беспомощность которого его не слишком шокирует. Опасности, казавшиеся роковыми для "националистов", представляются вирджинскому плантатору второстепенными; по-настоящему его беспокоит лишь внешнеполитическая слабость конфедерации. "Мы заняты тем, что стремимся объединить наши органы правления в единое целое, - пишет он де Шателье. - Для этой цели потребуются некоторые добавления к нашей конфедерации. Но в целом с окончанием войны все идет гладко".
Тем временем законодательная деятельность Джефферсона подходила к концу. Перспектива дипломатической карьеры, вытащившей его из отставки, открылась вновь. 7 мая 1784 г. конгресс назначил его полномочным посланником для заключения договоров о дружбе и торговле с европейскими странами вместо возвращающегося из Европы Джона Джея. Джефферсон без сожаления покинул конгресс и уже 5 июня отплыл из Бостона в Европу, чтобы открыть новую страницу своей жизни.
* * *
Старый Свет, а точнее Франция и Париж, произвел на Джефферсона сильное противоречивое впечатление. Строгая иерархия феодального общества, вопиющие социальные и классовые контрасты, крайне неравномерное распределение собственности - все резало глаза вирджинца. "Возможно, вам любопытно будет узнать, какое впечатление произвела эта новая сцена на дикаря с американских гор, - пишет он профессору К. Беллини из колледжа Уильяма и Мэри. - Далеко не самое лучшее, уверяю вас. Я нахожу человеческую долю здесь крайне несчастной. Постоянно приходит на ум верное наблюдение Вольтера о том, что каждому человеку здесь приходится быть либо молотом, либо наковальней". Не меньше оскорбляли пуританскую мораль американца блеск роскоши, легкие нравы и утонченная чувственность, культивируемые французским дворянством. "Супружеская любовь здесь не существует, а покоящееся на ней домашнее счастье им совершенно неведомо". Он заклинает знакомых не посылать сыновей на учебу в Европу, где они неминуемо заразятся "пристрастием к европейской роскоши, легкомысленным развлечениям", "духом женских интриг" и "презрением к простоте свой страны". К тому же Европа погрязла в невежестве: "в науке масса народа на два столетия позади нас".
Зрелище упадка Старого Света возвращает Джефферсона к мыслям о простой и прекрасной родине, благословенность которой он ощутил в полной мере, лишь глядя на нее из Европы. "Боже мой! - восклицает он. - Как мало мои соотечественники сознают, сколь драгоценными благами они владеют, в отличие от всех других народов земли. Признаюсь, что и я сам этого не понимал..." Европейские впечатления еще больше утвердили Джефферсона в его представлении об истинном пути Америки - пути фермерской республики. Разговоры с бедняками на улицах, делится он с Мэдисоном, вызвали у него "цепь размышлений о неравенстве в разделении собственности, порождающем бесчисленные безобразия". $4,; вновь он возвращается к спасительной мысли о счастливой особенности своей страны - обилии свободных земель. Необходимо, пишет он, "обеспечить всеми возможными средствами, чтобы как можно меньшее количество людей оставалось без небольшого куска земли. Мелкие землевладельцы - самая драгоценная часть государства". Его доктринальная приверженность своему идеалу в противовес торгово-промышленной цивилизации Европы достигает апогея: "Если бы я мог дать волю своей теории, - пишет он Т. фон Хогендорпу, - я бы хотел, чтобы они (американцы. - В. П.) не занимались ни торговлей, ни мореплаванием и находились по отношению к Европе точно в положении Китая. Таким образом мы бы избежали войны, а все наши граждане были бы земледельцами". "Но это только в теории", - выразительно добавляет Джефферсон.
И в самом деле, отгораживаться "китайской стеной" американизма от Европы можно было только в теории. Во-первых, он сам был слишком просвещенным человеком, чтобы не заметить и светлых сторон европейской жизни, которые с пользой могли быть перенесены в Америку. Его восхищают достижения научной и технической мысли, искусство, архитектура европейцев. "Мне не хватило бы слов, если я стал бы рассказывать, как наслаждаюсь их архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой". Даже в области манер Франция далеко ушла вперед: "Здесь можно прожить жизнь, не встретив ни единой грубости".
Главное же препятствие на пути изоляции Америки заключалось в том, что американцев невозможно было заставить, как признал автор "Заметок о штате Вирджиния", "не заниматься торговлей", и разве сам Джефферсон приехал во Францию не затем, чтобы укрепить торговые отношения своей страны с Европой?
В Париже Джефферсон присоединился к старым знакомым - Б. Франклину и Дж. Адамсу - знаменитое трио Декларации независимости вновь действовало сообща. Джефферсон всю зиму проболел, и настоящая работа для него началась с весны следующего года, когда конгресс назначил его вместо Франклина посланником во Франции, а Адамса направил в Лондон. Позднее Джефферсон вспоминал, что вступление в бывшую должность Франклина стало для него "отличной школой смирения". Слава великого американца, который, по словам Тюрго, "вырвал молнию у небес и скипетр из рук тирана", заслоняла Джефферсона, да он и не собирался с нею тягаться. "Итак, вы заменили доктора Франклина?" - спросили его как-то при знакомстве. "Никто не может заменить его, сэр, - последовал ответ. - Я всего-навсего его преемник".
Задача Джефферсона заключалась в налаживании торговых отношений с европейскими странами на основе принципов свободной торговли или в крайнем случае режима наибольшего благоприятствования. Такой курс соответствовал не только веяниям времени и теории Адама Смита, но и насущным интересам страны. Выпав из орбиты английской торговой системы и лишившись объемистой торговли с британской Вест - Индией, Соединенные Штаты были вынуждены искать новые торговые связи и рынки сбыта своей обширной сельскохозяйственной продукции. Они не имели военно-морского флота для защиты своей торговли, собственной промышленности, которую нужно было бы ограждать таможенными барьерами, и потому ратовали за свободную торговлю. "В наших интересах широко распахнуть двери торговле, - писал Джефферсон в тех же "Заметках", - и отбросить все препоны, предоставив всем абсолютную свободу ввоза в наши порты всего, что они пожелают, и требуя того же от них..." Развертывание торговых и установление дипломатических отношений с европейскими странами было необходимо и для укрепления международных позиций молодой страны. Главное, подчеркивалось в инструкции конгресса дипломатам, состоит в "приобретении поддержки независимости Соединенных Штатов".
Конгресс считал соблазн равноправной торговли с Америкой настолько неотразимым, что поручил Адамсу, Франклину и Джефферсону начать переговоры сразу с 16 европейскими странами, в том числе и с Россией. Однако эти большие надежды не оправдались. Все основные европейские державы опоясали себя и свои колонии замкнутыми соперничающими торгово-меркантилистскими зонами и не собирались отказываться от своих привилегий ради сомнительных преимуществ торговли с малопонятным государством, которое даже не в состоянии контролировать действия своих 13 штатов. Американские посланники стучались в закрытые двери. Они разослали проекты договора во все 16 столиц, но очень скоро обнаружили, как писал Джефферсон, что "заключать торговые соглашения в Европе - нелегкое дело. Мы не пользуемся достаточным доверием". Европа молчала. Лондон издевательски поинтересовался: "Каковы в действительности ваши полномочия - направлены ли вы конгрессом или получили отдельные полномочия от соответствующих штатов?" Только Фридрих Прусский проявил интерес, и в сентябре 1785 года торговый договор с Пруссией был заключен, но торговля с нею имела мизерное значение для Америки.
Хотя договора о торговле с Россией заключить не удалось, именно в эти годы было положено начало постоянным торговым связям США с Россией, развивавшимся без особых помех с обеих сторон. С 1784 года американские суда регулярно посещают российские порты, увозя домой железо, пеньку, парусину и другие товары.
Потерпев неудачу на общеевропейском фронте, Джефферсон и Адамс ограничили свои усилия Францией и Англией основными торговыми партнерами США.
В планах Джефферсона Франции отводилась ключевая роль. Англия по-прежнему была настроена враждебно; только укрепление торгово-политических уз с Францией - этой крупнейшей европейской державой, главным врагом Англии и союзником США - могло, по его мнению, вырвать Соединенные Штаты из опасной торговой зависимости от Англии. Франция представлялась ему главным противовесом бывшей метрополии, "единственной страной, на помощь которой мы можем с уверенностью полагаться до тех пор, пока сами не встанем на ноги". Прочные торговые отношения надежно скрепили бы политический союз двух стран, "еще теснее сблизив их в дружбе, связав их интересы", - писал Джефферсон французскому министру иностранных дел графу Вержену.
К тому же торговые интересы двух стран взаимно дополняли друг друга. "Никакие другие две страны, - продолжал Джефферсон в том же послании, - не созданы столь удачно для торгового обмена. Франции нужны рис, табак, поташ, меха, лес для кораблестроения. Мы нуждаемся в винах, коньяках, маслах и промышленных товарах". В лице опытного Вержена, стоявшего еще у истоков франко-американского союза, Джефферсон нашел некоторую поддержку. "Хотя абсолютный деспотизм отталкивает его от нашего строя, - писал о нем Джефферсон, - его страх перед Великобританией заставляет ценить нас как противовес".
По инициативе Вержена Франция в 1784 году открыла ряд портов своих владений в Вест - Индии для американских судов. Но на пути франко-американского коммерческого сближения стояли серьезные препятствия. В Америке против него действовала объединенная сила традиции, привычки американцев к английским товарам и преимущества английского долгосрочного торгового кредита, а во Франции - боязнь американской конкуренции и политика меркантилизма. Если американцы и увеличили вывоз во Французскую Вест - Индию, то их импорт по-прежнему ориентировался на туманный Альбион и баланс Франции в торговле с Америкой продолжал оставаться пассивным. Поскольку изменить вкусы соотечественников Джефферсон был не в силах, он занялся борьбой с французским меркантилизмом, стараясь убедить Вержена в том, что американцы станут больше покупать у французов, если смогут свободнее продавать им.
В первую очередь это касалось главной статьи американского экспорта - табака. Расширению его ввоза во Францию препятствовала монополия на табачный импорт, дарованная королем могущественной компании "Фамерс женераль", которая за это ежегодно выплачивала королевской казне круглую сумму в 29 миллионов франков. Джефферсон предложил Вержену ликвидировать табачную монополию; в этом случае, уверял он, объем торговли резко возрастет и даст такие поступления в казну за счет таможенных сборов, которые перекроют ежегодную дань "Фамерс женераль". А вслед за табаком пойдут и другие товары. Идея понравилась Вержену, но дело практически не подвигалось - монополия была слишком влиятельной, а генеральный казначей Колонн не хотел рисковать поступлениями в и без того тощую казну. Ситуация осложнилась еще больше, когда выяснилось, что "Фамерс женераль" связана трехгодичным контрактом с Робертом Моррисом, которому предоставлялось исключительное право на поставку американского табака во Францию. Монополия оказалась о двух головах!
К счастью, в ту пору во Францию вернулся Лафайет и с рвением недавно обращенного приверженца американизма принялся помогать .Джефферсону. Поддержка влиятельного аристократа была бесценной. "Двери всех министерств всегда были открыты для него.., - вспоминал Джефферсон много лет спустя, - по правде говоря, я только держал гвоздь, а он вколачивал". Лафайет добился создания специального комитета по развитию франко-американской торговли, куда вошли некоторые коммерсанты и государственные чиновники. Комитету удалось несколько ослабить двойную табачную монополию: компании было вменено в обязанность закупать дополнительное количество табака у индивидуальных американских торговцев и запрещено в дальнейшем заключать контракты, подобные соглашению с Моррисом.
После этого комитет переключился на другие товары, и его итоговый доклад в форме послания Колонна Джефферсону предусматривал дальнейшие уступки американским торговцам: снижение таможенных пошлин на китовый жир и некоторые другие товары, отмену пошлин на поташ, кожу, меха. Послу США это казалось триумфом его курса политического сближения с Францией. "Мы ничего не должны жалеть для того, чтобы привлечь к себе эту страну, - пишет он в январе 1787 года Мэдисону. - Она единственная, на чью поддержку мы можем положиться в любом случае".
Победа, однако, оказалась эфемерной. Рекомендации комитета не получили силы закона; в феврале 1787 года умер Вержен, а в апреле был уволен в отставку Колонн. Джефферсон, но с трудом отстоял лишь первоначальные решения комитета, его напряженные усилия принесли незначительные результаты. Объем франко-американской торговли за этот период почти не увеличился, и планы создания торговой системы двух стран не сбылись. Произошло это, конечно, не по вине Джефферсона, а в силу объективных обстоятельств, главным образом низкой конкурентоспособности французского промышленного производства по сравнению с английским. "Мастерская мира" по-прежнему удерживала свою бывшую колонию на прочном поводке торговой зависимости, что имело серьезнейшее значение для будущего молодой страны.
Весной 1786 года Джефферсон получил возможность поближе познакомиться с презренной деспотией - родиной своих предков. Джон Адаме, изнывавший от сырости Лондона и холода двора, призвал его помочь в переговорах с послами Португалии, Триполи, а также с правительством самой Англии. Вдвоем они заключили договор с послом Португалии, позже отвергнутый в этой стране, и погрязли в утомительных и бесплодных переговорах с представителем пиратствующего Триполи, который запросил непомерный выкуп за прекращение грабежей американских торговых судов в Средиземном море. Но самая горькая неудача подстерегала их в отношениях с Англией. Министр иностранных дел лорд Карматен принял американских посланников с ледяной учтивостью и не стал даже вступать в переговоры. "Сам "тиран" и злой демон Декларации независимости - его величество король Георг III на официальной церемонии демонстративно повернулся к ним спиной, не пытаясь скрыть своего отвращения", - негодовал Джефферсон. Такое обращение весьма убедительно подтвердило его опасения насчет Англии: Джон Булль преисполнен неискоренимой вражды к американцам и понимает лишь язык силы. "С этой страной ничего не поделать, - пишет Джефферсон Мэдисону. - Она ненавидит нас, ее министры ненавидят нас и больше всех - ее король".
Но враждебность не застилает глаза Джефферсону. Он отдает должное английской промышленности, охотно знакомится с ее техническими достижениями и подробно, с упоением рассказывает о них в письмах домой. "Одно заслуживает особого внимания ввиду своей простоты, гениальности и вероятных последствий. Это - использование пара для помола зерна. ... Не сомневаюсь, что оно найдет применение во всех машинах". Еще больше поразили Джефферсона английские парки, и он уже прикидывает, во сколько ему обойдется такой же в Монтичелло.
Вообще европейский период жизни Джефферсона был, в сущности, непрерывным и неустанным наблюдением, сбором самых разнообразных научных и практических сведений. Круг его интересов удивителен своей широтой, а энтузиазм просто ошеломляет. В океане на Пути во Францию он ежедневно регистрирует температуру воздуха и воды, а также записывает наблюдения о птицах и других морских обитателях; из Англии вывозит десятки приборов и инструментов, во Франции наблюдает первые полеты на воздушных шарах и тут же перебирает возможности их практического применения; во время путешествия по Южной Франции и Северной Италии его интересует выращивание винограда, оливкового дерева, риса, загадки окаменелых морских ракушек, римских развалин и сдвигов в линии Средиземноморского побережья; он расспрашивает крестьян о заработках, а затем, выставив их из лачуг, как рассказывал Лафайету, заглядывает в их котелки, ест их хлеб и присаживается на кровати, как бы отдыхая, а на самом деле, - чтобы узнать, мягкие ли они. Пересекая Альпы, он изучает приспособление растений к низкой температуре и ищет точный маршрут похода Ганнибала.
Энциклопедический универсализм Джефферсона поразителен для современного человека. Недаром президент Дж. Кеннеди однажды сказал на первом официальном приеме в честь американских ученых - нобелевских лауреатов: "Это самый уникальный набор талантов, когда-либо собиравшихся в Белом доме, - за исключением, возможно, того времени, когда Томас Джефферсон обедал здесь в одиночестве". Но он жил в эпоху Просвещения, когда философы считали своей компетенцией всю сферу познания и искренне презирали всякую специализацию. Джефферсон был лишь одним из представителей могучего племени "великих дилетантов", младшим собратом таких титанов, как Гёте и Франклин. Многие его знакомые - Дж. Пристли, Б. Раш, Дюпон де Немур, Т. Пейн и др. - были, как и он, учеными-любителями и изобретателями, реформаторами в области образования, писали экономические и политические трактаты, размышляли о философии и религии, обладали прекрасным слогом и увлекались политикой. Разносторонность была общим уделом высокообразованных людей.
Однако в Старом Свете Джефферсоком движет не только ненасытная любознательность, но и стремление применить европейский опыт и достижения на благо своей страны. Просветительская вера во всесилие человеческого разума и науки, в их великую освободительную роль была, пожалуй, самым устойчивым убеждением всей жизни Джефферсона. Другим таким убеждением была уверенность в высшем предначертании американского пути. "Не знаю ничего более прекрасного, чем наша страна, - восклицает он в письме Анжелике Чёрч. - Ученые умы считают ее новым творением и я верю им; но не из-за их доказательств, а потому, что она создана по улучшенному плану. Европа - это первый набросок, грубое изделие мастера, сделанное до того, как он постиг свое ремесло или решил, чего же он хочет".
Изначальная исключительность Америки, соединенная с прогрессом науки и знания, - великое видение, захватившее философа, но пока "новое творение" явно отставало от "первого наброска" по части науки и техники. Следовательно, отмечал Джефферсон, "мы неизбежно зависим в развитии науки от других стран, существующих дольше, более развитых и располагающих лучшими средствами по сравнению с нами". Недаром он называл себя "научным разведчиком" Америки в Европе. В своих письмах на родину Джефферсон пропагандирует уйму европейских новшеств: от фосфорных спичек до парового двигателя, покупает чемоданами книжки-новинки для себя и друзей, вывозит из южной Франции саженцы оливковых деревьев, а из Италии - контрабандой, под страхом наказания - два мешка лучших сортов риса ("величайшая услуга, которую только можно оказать стране, - это добавить полезное растение к ее культурам"). Он переправляет в Вирджинию макет римского храма для строительства Капитолия в Ричмонде и заглядывается даже на тулузского соловья: "Что за птица будет соловей в американском климате! Мы должны колонизировать его".
Здесь, в Европе, Джефферсон нашел нечто еще более редкое, чего уже не думал встретить в своей жизни, - любовь. Ее звали Мария Косуэй. Жена известного английского художника-миниатюриста, 27-летняя красавица с прелестным точеным лицом в пышном ореоле золотых волос казалась воплощением хрупкой женственности. Англичанка, выросшая в Италии, она получила прекрасное воспитание, владела несколькими языками, была очень музыкальна и неплохо рисовала - набор очарований, особенно неотразимый для Джефферсона. Он познакомился с четой Косуэй в августе 1786 года через своего приятеля - американского художника Джона Трамбелла и сразу же пленился молодой англичанкой. Весь золотой сентябрь они провели в прогулках по Парижу и окрестностям, галереях, концертах, выставках и салонах художников. "Как все было прекрасно! - напишет потом Джефферсон. - Колесо времени мчалось со скоростью нашей кареты и все же вечерами, вспоминая прошедший день, думалось - через сколько миль счастья мы проехали сегодня!" Одновременно ему приходилось рассылать, во все концы города извинения за нарушение обязательств.

Мария Косуэй
Для педанта, неуклонно придерживающегося железного распорядка дня, такая легкомысленность могла означать только одно. Он действительно влюбился, этот 43-летний, бесконечно рассудительный вдовец, а ей по крайней мере льстило внимание известного американца. Отрезвление пришло скоро и помог этому... несчастный случай (Джефферсон упал с лошади и сильно повредил кисть правой руки), вырвавший его из пьянящего плена романтического времяпрепровождения и отдавший во власть рассудка. Тем временем Мария с мужем уехали в Англию, а прикованный к постели влюбленный здоровой левой рукой изложил на 20 страницах состояние своей души в письме к ней, составленном, согласно классической традиции, в форме диалога - диалога разума и сердца.
Эта стопка листков невыносимых каракулей - одно из самых любопытных произведений Джефферсона, шедевр в своем жанре по изяществу мыслей и выражений, к тому же приоткрывающий неожиданные стороны его натуры, в которой стоик-рационалист изредка соседствует с сентиментальным романтиком.
Разговор начинает сердце жалобами на боль расставания. Само виновато, ответствует разум, ибо "в этом мире все требует расчета. Поэтому продвигайся осторожно, с весами в руках. Клади на одну чашу удовольствия, доставленные каким-либо объектом, а на другую без утайки - страдания, которые последуют за ними, и смотри, что перевешивает. Не клюй на приманку удовольствия, пока не убедишься, что под ней не спрятан крючок. Искусство жизни есть искусство избегать страданий. Самое действенное средство уберечься от них - это удалиться в себя и довольствоваться собственным счастьем. Наслаждения, на которые может рассчитывать мудрый человек, - это те, которые зависят только от нас самих, ибо ничто не наше, чего другие могут нас лишить. Отсюда - неоценимая ценность интеллектуальных удовольствий. Всегда в нашей власти, всегда ведущие нас к чему-то новому и никогда не пресыщающие - с ними мы парим гордо и безмятежно над заботами бренного мира... Дружба - это лишь иное название для союза с глупостями и несчастьями других. Наша собственная доля страданий вполне достаточна - зачем же добровольно входить в чужие?"
"Но и о вас никто не позаботится, если вы сами ко всем безразличны.., - упорствует сердце. - Мы ведь и сами не бессмертны, мой друг, так как же мы можем надеяться на вечные радости? Нет розы без шипов и нет неомраченных удовольствий. Таков закон существования, и мы должны ему покориться... Высшая мудрость есть высшее безрассудство: вы путаете счастье с простым отсутствием страданий. Когда б хоть раз вы почувствовали радость одного-единственного сердечного порыва, то променяли бы на него все холодные рассуждения своей жизни, которую вы расхваливали в столь восторженных словах". И хотя в письме последнее слово останется за сердцем, в жизни, как и всегда у Джефферсона, побеждает рассудок. Его последний роман быстро угасает, особенно после растерянно-невнятного ответного лепета Марии, явно неспособной поддерживать предложенный уровень эпистолярного обмена. Они еще некоторое время переписывались и даже встречались в следующем году, но прежней близости не было и следа.
* * *
В Америке тем временем назревали большие события: политический кризис конфедерации углублялся, и лидеры буржуазии бились в поисках выхода из создавшегося тупика.
Среди них происходила, как сообщал Мэдисон, "революция в настроениях" в пользу свертывания демократии и укрепления государственной власти, подстегнутая восстанием Д. Шейса. После этого уже и вирджинская ассамблея присоединилась к призыву созвать конвент для реформы конфедерации. Но "революция" эта не коснулась Джефферсона. В отрыве от американской почвы он не только сохранил в неприкосновенности свои ортодоксальные республиканско-демократические взгляды периода подъема освободительной борьбы, но и еще более утвердился в них под влиянием европейских впечатлений о тяготах монархического правления. "Я и раньше был врагом монархии, - делится он с Вашингтоном, - теперь я ненавижу ее в тысячу раз больше". Опыт дипломатической работы убедил его в том, на чем он стоял и прежде: конфедерация нуждается лишь во внешнеполитическом укреплении. "Европейская политика, - писал он Мэдисону в начале 1786 года, - делает для нас абсолютно необходимым выступать во внешних делах единой, надежно укрепленной страной. Внутреннее правление - это то, что каждый штат должен делать для себя сам". Федеральные налоги, конечно, нужны, но конфедерация и так наделена полномочиями на их введение.
В информации с родины недостатка не ощущалось - многочисленные знакомые и друзья постоянно сообщали ему все важные новости. Тон писем постепенно становился все более тревожным и с началом волнений в Массачусетсе перерос в панику. В конце октября 1786 года секретарь по иностранным делам Джей пишет ему: "Сопротивление налогам, недовольство правительством, жажда собственности и безразличие к средствам ее получения - все это вместе со стремлением к полному равенству возбуждает массы людей, находящихся в стесненных обстоятельствах". В начале декабря Мэдисон сообщает, что "свидетельства опасных дефектов конфедерации переубедили самых упрямых противников ее реформы". Весной даже невозмутимый Вашингтон шлет ему- прямо-таки отчаянное послание: "Государство (если это можно назвать государством) потрясено до основания и может быть опрокинуто первым же взрывом. Это конец: если не найти вскоре противодействия, то неизбежно последуют смятение и анархия".
Для Джефферсона, загипнотизированного зрелищем монархических злоупотреблений в Европе, эти страхи казались лишним подтверждением того, как мало его соотечественники сознают благословенность своего положения по сравнению с положением других народов. Шире надо мыслить, соотечественники! "Дефекты нашей конфедерации, - мягко поучает он Вашингтона в ответ на его паническое письмо, - настолько малы по сравнению с имеющимися во всех других государствах земли, что наши граждане, несомненно, находятся в самом счастливом политическом положении из существующих". Однако пребывавшие в гуще событий были неспособны подняться до безмятежной высоты вселенского взгляда и довольствоваться относительными преимуществами своего положения - они хотели абсолютных, с досадой отмахиваясь от внушений Джефферсона. "Тем, кто не был на месте, - разъяснял ему Вашингтон, - практически невозможно оценить по одному описанию опасность нашего положения".
Но тому даже восстание Шейса, до смерти напугавшее людей его круга на родине, в масштабах мировой ситуации казалось всего лишь незначительным превышением нормального уровня политической активности народа. Его тяжелое положение, пишет он Мэдисону, "вызвало совершенно неоправданные действия", но "беспокойства, присущие демократии", - меньшее зло, чем язвы монархии. "Этот порок, - утверждает Джефферсон, - даже порождает добро. Он предотвращает вырождение государства и питает всеобщий интерес к общественным делам. Я считаю, что маленький бунт время от времени - хорошее дело, столь же необходимое в мире политики, как бури в мире физических явлений". Поэтому "лелейте дух нашего народа и поддерживайте живым его интерес (к общественным делам. - В. П.), - пишет он земляку Э. Каррингтону, - иначе вы и я, конгресс и легислатуры, судьи и губернаторы - все превратимся в волков".
Джефферсоновское принятие "маленьких бунтов" отнюдь не означало признания правомочности новых революционных изменений - "абстрактное право на революцию в действительности сводилось Джефферсоном к праву на буржуазную резолюцию", как отметил советский историк В. В. Согрин. Но все же то был "дух 76 года", и оп, конечно, не мог не прийти в столкновение с "духом 87 года". Уже первые наброски будущей конституции, присланные Мэдисоном, ему не понравились - это было все равно, что "чинить небольшую дырку заплатой на весь ковер". Насторожила и секретность заседаний съезда ("отвратительный прецедент связывания языков"), хотя состав делегатов Джефферсон считал "собранием полубогов". Первая непосредственная реакция на творение "полубогов" оказалась резко отрицательной. Столь резкое изменение государственного устройства явно застало его врасплох. "Признаюсь, здесь есть такие вещи, которые потрясают всю мою предрасположенность присоединиться к решению этого собрания... Все хорошее в новой конституции можно было бы изложить в трех-четырех статьях, добавленных к добротному, старому и заслуженному устройству...", - сокрушался он в письме Джону Адамсу.
На склоне лет Джефферсон несколько подправил свое былое отношение к ставшей потом "священной" конституции. Первый экземпляр документа он, оказывается, воспринял "с громадным удовлетворением". На деле тогда его реакция напоминала скорее искреннее возмущение, ярче всего проявившееся в письме молодому другу - зятю Джона Адамса У. Смиту: "Наш съезд находится под чрезмерным впечатлением от бунта в Массачусетсе и, движимый моментом, сажает коршуна надзирать над птичьим двором". А что такое этот бунт, если разобраться как следует? "Какая страна может сохранить свою свободу, если ее правителям время от времени не напоминают о том, что в народе еще жив дух сопротивления? Пусть берутся за оружие. Противоядие одно - ознакомить их с истинным положением вещей, помиловать и умиротворить". Были человеческие жертвы? Ну что же - "древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов". Якобинской смелости слова, до сих пор пугающие добропорядочных американских буржуа, видящих в их авторе кровожадного революционера. Правда, тут же простым подсчетом Джефферсон доказывает, что крови в конце концов будет не так уж и много: один мятеж на 13 штатов в течение 10 лет в пересчете на каждый штат дает один мятеж в 150 лет: "Была ли страна, существовавшая полтора столетия без мятежа..? Что значит потеря нескольких жизней раз в сто или двести лет?"
Но вот приходит толстое письмо от Мэдисона с подробными комментариями и доводами в защиту новой конституции, выявляется ее популярность среди власть имущих, и отношение Джефферсона начинает меняться. Он занимает уже "нейтральную" позицию, как сообщает Каррингтону 21декабря: "В ней очень много хорошего и выраженного в желательной форме, ко есть для меня и одна - две горькие пилюли". Что же это за пилюли? Неограниченная возможность переизбрания одного и того же президента, который есть не что иное, как "плохое издание польского короля", и отсутствие билля о правах, "на который имеет право народ в отношении любого государства... и в котором ни одно справедливое правительство не должно отказывать". "Я не сторонник очень энергичного правления, - поясняет он Мэдисону, - оно всегда угнетает".
Но, кажется, конституция будет принята штатами, тогда "пусть решает большинство - если оно одобрит предложенную конституцию, я охотно соглашусь с ним в надежде на то, что оно исправит ее, когда обнаружит недостатки". Да и стоит ли придавать такое значение деталям государственного устройства, если залог успеха республиканского эксперимента - в самом народе: "Наши штаты будут оставаться добродетельными до тех пор, пока они преимущественно аграрные, а они останутся таковыми, пока есть свободные земли в какой-либо части Америки".
По мере одобрения конституции штатами Джефферсон обнаруживает в ней все больше достоинств. "Конституция, видимо, завоевывает общественное мнение, да и мое, признаться, тоже, - пишет он в мае 1788 года Каррингтону. - С первого взгляда я увидел, что подавляющая ее часть хороша, но мне не понравились некоторые привески. Размышления и обсуждение устранили большую часть этих сомнений". Немалую роль в этом осмыслении сыграл, по признанию Джефферсона, и "Федералист" - "лучший из когда-либо написанных комментариев о принципах государственного устройства".
Окончательное принятие конституции рассеяло остатки сомнений: она "бесспорно мудрейшая из всех когда-либо предложенных людям", - пишет он Д. Хэмфри; "хорошее полотно, нуждающееся лишь в нескольких последних мазках" - Мэдисону. За исключением оговорки насчет билля о правах, Джефферсон в какие-нибудь полгода полностью примирился с конституцией, и та легкость, с которой совершилась эта метаморфоза, мешает объяснить это только как вынужденное, сквозь стиснутые зубы признание свершившегося факта. Она поневоле заставляет усомниться в прочности некоторых исходных убеждений Джефферсона и вновь подводит нас к той особенности его натуры и мышления, которую Карл Беккер назвал "радикализмом по профессии". "Мы часто чувствуем, - писал этот маститый американский историк, - что он защищает определенные действия и идеи, осуждает городские нравы или институты не столько в силу независимого суждения или глубокого убеждения... сколько потому, что, в общем, это вещи, которые философ и добродетельный человек должны естественно защищать или осуждать. Философам восемнадцатого столетия безусловно надлежало обращаться к Природе, защищать Свободу, клеймить Тиранию и иногда ронять слезу при мысли о благородных деяниях". Абстрактно-революционные сентенции о "древе свободы", орошаемом кровью патриотов и тиранов, "святости бунта" и т. п. и были порождением этого дистиллированного, очищенного от подлинных страстей и прочувствованных убеждений словесно-академического радикализма, не выдерживающего столкновений с реальной действительностью. И неудивительно, что эти столкновения отнюдь не приводили к внутреннему потрясению или надлому. Джефферсон отлично умел проводить грань между спекулятивным и практическим мышлением, отдавая в политике первенство последнему. "То, что практично, - говаривал он, - зачастую должно управлять чистой теорией".
Та же двойственность прослеживается и во внешнеполитических взглядах Джефферсона. Он полностью разделяет упования философов-просветителей на скорое воцарение эры разума и справедливости как главных начал в отношениях между странами. Ссылаясь на пример великодушной помощи Соединенным Штатам со стороны Франции, он торжественно утверждает, что сила и принуждение в международных делах "были узаконенными принципами лишь во мраке средневековья, вклинившегося между античной и современной цивилизацией, но в восемнадцатом столетии они рухнули, отвергаемые с праведным ужасом".
Наслаиваясь на типично американское ощущение исключительности Нового Света и его безопасной удаленности от эпицентра мировых бурь - Европы, эти прекраснодушные надежды еще более укрепляли Джефферсона в его интеллектуальном отвращении к традиционной дипломатии, "этой мастерской, где производятся все европейские войны", и в его убеждении в том, что Америке нужна совсем иная - "антидипломатическая система", основанная на принципах отказа от войн, мирной торговли, полного невмешательства в дела других стран и минимальных дипломатических контактов.
В то же время Джефферсон - дипломат и политик далек от того, чтобы абстрагироваться от окружающего мира и всецело положиться на благословенную уединенность США и миролюбие просвещенных европейских государств. "Мы должны пристально следить за ними, их связями и противоречиями, - наставляет он Э. Каррингтона из Парижа, - с тем, чтобы в нужный момент с выгодой воспользоваться из слабостью относительно друг друга или нас самих". Да и как удержаться от вмешательства в европейские дела, если его требуют интересы американской торговой экспансии, от которой, помимо прочего, зависит и процветание "богоизбранного" американского фермерства? "Продукция Соединенных Штатов скоро превысит европейский спрос, - с неподдельной озабоченностью писал Джефферсон осенью 1788 года Вашингтону. - Что делать с этим излишком, когда он появится? Несомненно, он будет использован для насильственного открытия рынков на нашем континенте... Есть, очевидно, и другие причины, которые могут вовлечь нас в войну, а война требует всех ресурсов налогообложения и кредита. Достижение военной мощи, достаточной для ведения войны, часто предотвращает ее и ведет к осуществлению нашего желания мира. Если новое государственное устройство, как я надеюсь, сможет создать такие условия, я не вижу, почему мы не можем воспользоваться чужими войнами, чтобы открыть другие части Америки для нашей торговли как плату за нейтралитет." Стало быть, "энергичное правление", немыслимое в теории, было совершенно необходимо на практике, включая и военную мощь, прежде всего - флот, за создание которого усиленно ратует посол США во Франции: "Мы должны быть военно-морской державой, если хотим развивать нашу торговлю". К тому же - снова удачное совпадение соображений морали и целесообразности - военно-морские силы, в отличие от сухопутных, "никогда не поставят под угрозу нашу свободу и не приведут к кровопролитию". У конгресса нет денег на корабли? "Денег не будет до тех пор, пока конфедерация не покажет зубы". Зубы, разумеется, надлежало показывать осмотрительно - например, пиратским государствам Средиземноморья, сильно досаждающим американским торговцам: "Почему не объявить им войну, если они откажутся заключить договор?... Разве можно найти для нее более достойный повод или более слабого противника?" И война, оказывается, тоже может служить инструментом политики, если соотношение сил складывается в пользу США. То размышлял не философ-гуманист, а государственный деятель молодого, но уже агрессивного экспансионистского государства. И это тоже был Джефферсон.
* * *
Пусть он дважды не сумел принять участие в выработке конституции - своего штата и страны, но зато Джефферсону представился редкий случай наблюдать "две такие революции, каких никогда не видел мир". Не успел он благословить счастливое завершение революции в Америке, как прямо у него перед глазами начала развертываться грандиозная драма великой французской революции. В отношении к ней, в отличие от событий в своей стране Джефферсон предстает лишь в одном качестве - как трезвый политик, умеренный реформист, отнюдь не пламенный революционер.
Как истый американец, уверовавший в необратимость европейской деградации, вначале он не верил в возможность серьезных социальных перемен во Франции. "Что могут поделать овцы против волков, кроме как покориться и страдать без всякой надежды когда-либо изменить установленный порядок?" Созыв Генеральных Штатов показал, что страна ступила на путь реформации, но и на этом пути Джефферсон не ждет многого. Франция не может сразу перескочить от деспотизма к демократии - ее политические институты и народ еще не готовы к этому. "Если уж взращенный в демократических англосаксонских традициях американский народ следовало допускать к власти с большой осторожностью, то что же говорить о нетерпеливых и забитых французах? - рассуждает Джефферсон. - К сожалению, они еще не созрели для благ, на которые имеют право..." "Им потребуется тысяча лет, чтобы сравняться с политическими достижениями Америки", - пишет он осенью 1786 года Дж. Уайту.
Франция, как и Англия, должна идти по пути постепенного ограничения абсолютной монархии, и Джефферсон планирует для нее нечто вроде "славной революции" 1688 года. "Держа перед глазами образец вашего соседа, - советует он Лафайету, - вы сможете шаг за шагом продвигаться к хорошей конституции" (т. е. конституции английского образца. - В. П.). Его позиция совпадает с платформой того кружка либеральной аристократии, в котором он вращается в Париже, - Лафайет, Кандорсе, Ларошфуко, Дюпон де Немур и др. Вначале он надеется на компромисс короля с дворянством, потом, после созыва Генеральных Штатов, - на компромисс короля и трех сословий. "Помните, - писал он много лет спустя Лафайету, - как искренне я убеждал вас и патриотов моего круга войти в соглашение с королем, обеспечивающее свободу прессы, суд присяжных, неприкосновенность личности и национальное законодательное собрание - все то, что король, как было известно, готов уступить; а затем - разойтись по домам и предоставить всему этому улучшать состояние народа до тех пор, пока он не станет способен на большее".
В мае 1789 года он набросал для Лафайета и его друзей "хартию прав" - план примирения трех сословий по английскому образцу. С такими планами, присовокупил посол, можно добиться "большего, чем когда-либо, - и без насилия". Мирная, бескровная реформация сверху остается его идеалом, поэтому больше всего он опасается глупого упорства двора и аристократии, с одной стороны, и нетерпения, излишней требовательности третьего сословия - с другой. И то и другое может нарушить спасительное политическое равновесие под эгидой короля. Даже к середине июня - моменту временного отступления аристократии и триумфа Национального собрания, когда стало ясно, что речь идет о радикальной перестройке старого режима, Джефферсон всецело уповал на руководящую роль в ней Людовика XVI. "Судьба нации теперь зависит от поведения короля и его министров. Если они объединятся с третьим сословием, революция будет завершена без конвульсий", - пишет он Джею.
Народным массам не находится места в сценарии Джефферсона; этому главному действующему лицу он отводит роль статиста, чье поведение почти не влияет на основных героев и само действие. Со спокойным любопытством натуралиста взирает он на рокочущие массы Парижа, одинаково чуждый негодованию служившего во Франции Г. Морриса и энтузиазму Томаса Пейна. Человеческие жертвы не слишком пугают его. Нельзя "перескочить от деспотизма к свободе, лежа в пуховой постели", - говорит он Лафайету, и лишь иногда волнения пролетариата раздражают Джефферсона. "Это самые отъявленные бандиты, - пишет он о восстании рабочих бумажных фабрик Парижа весной 1789 года, - и не было еще бунта менее обоснованного и вызывающего меньше сострадания". Так реагировал глашатай гипотетических бунтов и крови на реальный бунт и реальную кровь. И не случайно - подлинная социальная революция снизу для него не существовала ни в опыте, ни в теории; он не хотел и не мог ее разглядеть. К великой французской революции, в крови и муках уничтожавшей многовековой феодальный режим, Джефферсон подходил с узкой меркой революции американской, задачи и размах которой были намного скромнее.
Революция во Франции пошла не по Джефферсону, и даже спустя много лет, описывая эти события, он не смог не попрекнуть ее фатальным пренебрежением к собственному проекту компромисса. Все могло быть иначе, ибо "даже после многих лет внешних и внутренних войн, потери миллионов жизней, разрушения человеческого счастья и временного порабощения своей страны иностранными державами они не добились большего". Подвел король, вернее вздорная Мария - Антуанетта, державшая беднягу под каблуком. Именно "беспорядочные аферы и беспутство.., беспредельное упрямство и отчаянность привели ее на гильотину, вместе с ней - короля и погрузили весь мир в преступления и бедствия, навсегда запятнавшие страницы современной истории". "Я всегда считал, - скажет он несколько позже, - что не будь королевы, не было бы и революции".
Но это будет потом, а пока - летом 1789 года - Джефферсон полон надежд на скорое и мирное завершение революции. Европа в конце концов оказывалась не столь уж безнадежной и, казалось ему, постепенно вступала на путь освобождения. Свежий ветер социального обновления веял, казалось, над всем миром; никогда еще до тех пор осуществление мечты философов-просветителей о скором торжестве "царства разума и справедливости" на земле не казалось таким реальным. Не случайно именно в эти месяцы рождается знаменитый тезис Джефферсона о том, что "земля принадлежит живущим и мертвые не имеют ни прав, ни власти над ними, ибо живые заимствуют свои права не у предков, а у самой природы". Для Джефферсона "самоочевидно", что каждое новое поколение, которое он уподоблял самостоятельной нации, суверенно и вправе переделывать общество по своим меркам, восставая против тирании прошлого, овеществленной в законах и обязательствах его предшественников; конституция - и та подлежала обновлению каждые 19-20 лет. В этой мысли, пожалуй, образнее всего отразился возвышенный идеал самого Джефферсона и Просвещения в целом, утверждавшего свободу и права личности как высшую цель, которой должно быть подчинено все, включая и государственное устройство.
Не случайно эта крылатая формула со скрытым в ней революционным пафосом социального преобразования удивительным образом предвосхитила и парировала известный контртезис Эдмунда Берка, выдвинутый им в следующем, 1790 году против французской революции и ее идеологии "ниспровержения устоев". Обрушившись на "новых философов", готовых "разрушать старое потому, что оно старое", и считающих, что "государственное правление можно менять, как фасон платья", английский мыслитель противопоставил им идею государства как исторического достояния нации, договора особого свойства, заключаемого "между живыми, мертвыми и еще не рожденными". Поэтому каждое из живущих поколений, по Берку, - это лишь "временные владельцы и пожизненные арендаторы" здания общественного устройства, которые не вправе, "пренебрегая полученным в наследство от предков и причитающимся потомкам брать на себя роль его полновластных хозяев".
Трудно найти в истории политической мысли более выразительное воплощение столкновения коренных принципов реформизма и консерватизма в извечном вопросе социального переустройства. Мысль Джефферсона в ее практическом приложении остается настолько радикальной и сегодня, что редактор наиболее полного, продолжающегося издания его документов, маститый американский историк Дж. Бойд счел за благо подчеркнуть, что Джефферсон имел в виду отвлеченный идеал, предназначенный в основном для Франции. Между тем сам Джефферсон в том же письме прямо указывал, что "этот принцип... имеет очень широкое применение и последствия для всех стран". Но, видимо, и он вполне сознавал чисто умозрительный характер этих построений, коль скоро так и не вынес их на публичное обсуждение, не говоря уже о реализации.
Авторитет крупнейшего философа американской революции в кругах либеральной аристократии Франции был весьма высок. Лафайет обсуждал с ним свой проект знаменитой Декларации прав человека и гражданина, в котором учитывал предложения автора Декларации независимости, его приглашали на заседание комитета по выработке конституции, но он как дипломат вынужден был отказаться; в его доме, наконец, по просьбе Лафайета однажды собрались сторонники маркиза для обсуждения проекта конституции. Там он услышал речи, сравнимые с "лучшими диалогами Ксенофонта, Платона и Цицерона". Джефферсон чувствует себя участником великой эстафеты - от американской революции к французской. "Мы вполне можем похвастаться тем, - пишет он Э. Рутледжу, - что показали миру прекрасный пример преобразования государства силой одного разума, без кровопролития". И Франция, слава богу, как будто следует этому примеру.
Джефферсон торжествует вдвойне - как гуманист и как американец, ибо победа республиканизма во Франции не только подвигает дело освобождения всего человечества ("это лишь первая глава в истории европейской свободы"), но и придает новый импульс желанному сближению сестер-республик - Франции и США, которое надежно оградит его страну от посягательств Великобритании.
Такой - борющейся за свободу и дружественной - надолго запомнил Францию Джефферсон, и в течение почти 10 следующих лет достижение согласия с ней оставалось "полярной звездой" его внешней политики. Но и потом, после многих разочарований и перемен в его политических симпатиях, осталась привязанность к друзьям, культуре, память о счастливых днях, проведенных на французской земле. На склоне дней его как-то спросили, в какой стране он хотел бы жить. "Конечно, в своей, - ответил Джефферсон. - Там все мои друзья, связи и самые ранние светлые воспоминания жизни". "А ваш второй выбор?" "Франция", - без колебаний ответил он.
|
ПОИСК:
|
© USA-HISTORY.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'