
Глава первая. МОЛОДОЙ ГАМИЛЬТОН: ПУТЬ НАВЕРХ
...Жажда славы - главенствующая страсть благороднейших умов, которая заставляет человека во имя общественного блага замышлять и осуществлять огромные и многотрудные дела...
Народ, сэр, - это большой зверь.
Фигура Александра Гамильтона стоит особняком в колоритной когорте "отцов - основателей". Так было при его жизни, так осталось и в истории. Все в нем - происхождение, молодость, романтика судьбы, крайность взглядов и откровенность суждений, наконец, трагический финал его яркой и короткой жизни, оставивший ощущение нереализованных еще возможностей, - делает Гамильтона самым нетипичным из всех "отцов - основателей".
Этот ярый националист, человек континентального размаха, строго говоря, даже не был американцем, ибо родился он на крохотном островке Нэвис, относившемся в ту пору к Британской Вест - Индии, а ныне - к Вирджинским островам, протянувшимся узкой грядой в северо-восточной части Карибского моря. Расположенные в точке пересечения морских торговых путей между Европой и Америкой, наделенные благодатным климатом, эти острова давно притягивали к себе людей, по разным причинам не ужившихся в Старом Свете. Там в 1752 году и встретились Джеймс Гамильтон - непутевый отпрыск старинного шотландского дворянского рода, покинувший родной дом в Эйршире в поисках славы и приключений, и дочь французского врача-гугенота Джона Фусэ, превратившегося на островах в состоятельного плантатора. Рашель Фусэ не повезло в жизни. Совсем юной она вышла замуж за торговца солидного достатка Джона Лэвьена и, судя по всему, не осталась безразличной к ухаживаниям своих сверстников. Степенный коммерсант терпеливо наставлял годившуюся ему в дочки жену на путь истинный, как-то раз даже довел дело до заключения ее в тюрьму за неверность, но добился лишь того, что Рашель после пяти лет семейной жизни сбежала от него и поселилась со своей матерью на острове Ките, где и познакомилась с юным шотландцем.
Молодые люди полюбили друг друга, не помышляя о церковном благословении, так как по английскому праву получить развод в Вест - Индии было практически невозможно. 11 января 1757 г. у них родился первенец Александр, а еще через несколько лет второй сын - Джеймс. Оба ребенка считались незаконнорожденными, поскольку брак родителей не был оформлен. Это впоследствии тешило врагов Гамильтона, злейший из которых - Джон Адаме за глаза называл его "выродком шотландского разносчика". Только гораздо позже, когда сошли в могилу современники Гамильтона, его почитатели и потомки попытались как-то возвысить своего кумира над сомнительными обстоятельствами его появления на свет. Возникли версии о законнорожденности, а одна легенда даже "утверждала в правах отцовства" самого Джорджа Вашингтона, который в конце 1751 - начале 1752 годов попал на Барбадос, где в то время предположительно гостила и Рашель.
Впрочем, при тогдашних нравах Вест - Индии такое положение считалось достаточно заурядным и не превращало людей в отверженных. Хуже было то, что хотя отец Гамильтона и не опустился до разносчика, удачливого авантюриста из него тоже не вышло. Неуживчивый и безвольный, он бросал одно место за другим, а семью постепенно настигала нужда. Наконец, в 1765 году он сбежал и от семьи, навсегда исчезнув в безвестности. К тому времени Рашель с детьми обосновались на острове Сен - Круа (ныне - Санта - Крус), находившемся под датским флагом. Чтобы как-то прокормиться, она открыла мелочную лавку, торгуя продуктами и предметами домашнего обихода. Мальчики помогали, и энергичной женщине удавалось кое-как сводить концы с концами. При этом Рашель не оставляла многочисленных и безуспешных попыток устроить свою личную жизнь, не особенно считаясь с детьми. Через три года она умерла от тропической лихорадки, оставив их без гроша, так как все ее уцелевшее после уплаты долгов скудное имущество перешло по суду к единственному законному сыну Джона Лэвьена.
Характерно, что впоследствии Гамильтон никогда не рассказывал о матери; о своем же бесталанном отце-дезертире всегда говорил охотно и с большим почтением, а когда тот дал о себе знать процветавшему уже сыну - помогал ему деньгами и звал к себе в Нью-Йорк. И дело здесь вовсе не в каких-то таинственных психологических комплексах. Просто имя отца - как-никак дворянина с 400-летним генеалогическим древом - служило для безвестного пришельца своего рода пропуском в высшее общество. "Моя кровь, - с гордостью говорил он, - ничуть не хуже крови тех, кто кичится своими предками". Но, болезненно - ревностное отношение к своей чести и репутации сохранилось у него на всю жизнь, равно как и мрачный взгляд на людей - ведь самые близкие из них оказались способными на предательство. Непомерное самолюбие усугубляло природное чувство обособленности и стремление к независимости. "Ты знаешь мое мнение о роде людском, - напишет тридцатилетний Гамильтон своему близкому Другу, - равно как и мое твердое намерение оберегать себя от привязанности и сохранять свое счастье независимым от капризов других".
После смерти матери дети перешли на попечение ее брата, который, однако, тоже недолго прожил на этом свете, успев лишь пристроить племянников в ученики: сметливого Александра в торговый дом Крюгера, а Джеймса - к плотнику.
Нелегким был жизненный старт Александра Гамильтона. Уже с 11 лет он мог полагаться только на себя, на собственные силы и способности. В том, что они у него были, не сомневался никто, в том числе и он сам: мальчик далеко превосходил своих сверстников умом и расторопностью. Но как примирить рано проснувшееся честолюбие с жалкими условиями существования? Сохранилось письмо четырнадцатилетнего Гамильтона своему другу Эдварду Стивенсу, сыну торговца, отправившемуся на учебу в колонии: "...Честолюбие заставляет меня презирать то пресмыкательское положение клерка или чего-нибудь в этом же духе, на которое обрекла меня судьба. Я охотно рискнул бы жизнью, но не убеждениями, чтобы вознести себя. ...Может показаться, что я строю воздушные замки; стыжусь своего безрассудства, Нэдд, но мы знаем, что все планы удаются, если в них верить. В заключение скажу, что мечтаю о войне". Его кумиром в те годы был английский генерал Джеймс Вольф, в 34 года сложивший голову во славу Британской империи. Мечты о военных подвигах не покидали Гамильтона всю жизнь.
Ближайшее будущее не сулило чудесных поворотов судьбы; оставалось ждать, надеяться и использовать имеющиеся возможности. В детские годы Александр не смог получить сколько-нибудь упорядоченного образования, лишь урывками занимался с домашним учителем. Подлинной же школой для него стала контора Николаса Крюгера.
Торговля была осью, вокруг которой вращалась вся жизнь Вест - Индии, а Крюгер - одним из крупнейших торговцев на Сен - Круа. Смелый и предприимчивый, выходец из богатого купеческого рода Крюгеров в Нью-Йорке, Николас Крюгер вел дела по обе стороны Атлантики. Его капитаны везли в Европу неочищенный тростниковый сахар, ром, патоку; а оттуда в Вест - Индию и колонии - все необходимые фабричные товары, промышляли контрабандой, не брезговали и каперством.
Гамильтон быстро нашел свое место в этом отлаженном механизме. Не по годам толковый и усердный конторщик, схватывающий на лету тонкости сложного коммерческого дела, понравился хозяину. К 1771 году он был уже, по всей видимости, старшим клерком: вел учет, оформлял деловые документы, поддерживал связь с капитанами кораблей и партнерами фирмы. Как-то Крюгер заболел и отправился на лечение в Нью-Йорк, передав дела своему 14-летнему помощнику. В течение трех месяцев паренек управлял фирмой не хуже матерого коммерсанта: продавал и покупал партии товаров, рассылал суда, проводил рискованные операции, о чем регулярно отчитывался в письмах хозяину. Удивляют доскональное знание предмета и уверенный тон распоряжений юного управляющего. Вот он задумал доставить контрабандным путем в обход испанской береговой охраны партию мулов из Венесуэлы для местных плантаторов и инструктирует капитана судна: "...Прошу вас быть очень осмотрительным в выборе мулов и взять на борт максимальное их количество; непременно запасите побольше фуража. Помните, что вы должны сделать три рейса за сезон и если не будете достаточно усердны, то не успеете, так как урожай нынче ранний. Позаботьтесь, - предупреждает безусый управляющий бывалого морского волка, - о том, чтобы разминуться с береговой охраной". Капитан исполнил все, но морской вояж пришелся явно не по нутру бедным животным. "Третьего дня, - с прискорбием докладывал хозяину Гамильтон, - капитан Ньютон доставил 41 мула в таком состоянии, что я был вынужден сразу отправить их на пастбище, тем не менее треть наверняка сдохнет". Следующий рейс прошел более удачно, и юный коммерсант остался с прибылью.
Служба у Крюгера стала хорошей школой для Гамильтона. Она рано освободила его от праздномыслия, поставив на твёрдую почву цифр и фактов, приучила к усердной, целенаправленной деятельности, помогла познакомиться с финансами и торговлей, а главное - укрепила способность самостоятельного мышления и принятия ответственных решений.
Однако отнюдь не только мулы и бухгалтерия интересовали этого хрупкого на вид клерка, чьи ноги не доставали пола, когда он сидел за своей конторкой. Мысль его рвалась далеко за пределы богом забытого городка Кристианстеда с тремя тысячами жителей, большую часть которых составляли цветные рабы. При этом Александр не был просто драйзеровским Каупервудом, бредившим одними финансовыми проектами. В редкие часы досуга он много читает, пишет сентиментальные стихи о неведомой капризной прелестнице, залитых солнцем лужайках и даже печатает их в местной газете. Но все больше им овладевает вовсе несвойственная его возрасту страсть к политике. Глубоко заполночь он засиживается над увесистыми фолиантами; Макиавелли и Гоббс становятся его любимцами. Удивительна не только рано выявившаяся определенность интересов Гамильтона, но и сама направленность его взглядов. Уже в апреле 1771 года в местной "Королевской датско-американской газете" появляется анонимная статья "Правила для государственных деятелей", в авторстве которой никто, конечно, не догадался заподозрить конторщика от Крюгеров. В подражание Макиавелли автор поучает - власть должна быть твердой. Он хвалит британскую систему правления, возвышающую премьер-министра, "наподобие главнокомандующего", считает это "мудрым установлением, полезным для обуздания народа, чья непокорность временами... требует диктатора". Откуда этот дух преклонения перед сильной властью у 14-летнего клерка? Эти слова можно было бы счесть наивной бравадой юнца, плодом незрелого подражания - если не знать, что Гамильтон навсегда остался верен духу своего первого политического эссе.
Как ни преуспевал Гамильтон в конторе Крюгера, это преуспевание казалось ему улиточьим продвижением к успеху, а честолюбивый юноша, почувствовавший "зов судьбы", стремился выйти на широкие жизненные просторы. Вырваться из тесного мирка Сен - Круа ему помог... шторм. Шторм необычной силы, налетевший на острова в августе 1772 года и унесший тридцать человеческих жизней, "вынес Гамильтона в историю", пишет его биограф Г. Атертон. Очевидец катастрофы, Гамильтон в романтически взволнованной манере описал происшедшее и послал свое произведение в газету. Очерк был вскоре опубликован и произвел большое впечатление на островитян, еще не оправившихся от ужасов пережитого. Имя автора попало на глаза местным богатеям, и, по инициативе городского священника Хью Нокса, в течение некоторого времени покровительствовавшего литературным опытам Гамильтона, они вызвались помочь молодому дарованию. При активном участии Крюгера был организован сбор средств для продолжения его обучений. Нельзя сказать, чтобы меценаты действовали исключительно из благотворительных целей. Городу нужен был врач, и они рассчитывали, что после окончания учебы Гамильтон вернется домой.
Осенью 1772 года он навсегда покинул родной остров. Путь его лежал в Нью - Йорк. Впереди, за тысячемильной полосой моря, простирался континент необозримых просторов и возможностей. Фигура, ставшая типичной в XVIII веке, когда зашатались вековые устои общественной жизни: юный честолюбец, без связей и состояния, бросающий вызов враждебному миру и завоевывающий свое место под солнцем. Через десять лет с другого острова на другой континент отправится другой безвестный юноша, чтобы вскоре потрясти весь мир...
* * *
В 1772 году Нью - Йорк был третьим по величине городом колоний: на занимаемой им прибрежной кромке острова Манхэттен площадью чуть больше квадратной мили проживало около 20 тысяч человек. Его большей частью немощеные улицы были грязны и кривы, не хватало питьевой воды, часто вспыхивали эпидемии. Филадельфия и Бостон были больше, чище и цивилизованней. Но 15-летнему провинциалу Нью - Йорк, должно быть, казался столицей мира.
Жизнь здесь била ключом, но Гамильтон понимал, что одного желания преуспеть недостаточно, нужно еще многому научиться. Самой ценной частью его скромного багажа были рекомендательные письма партнерам Крюгеров, состоятельному юристу Э. Бодино и губернатору Нью - Джерси У. Ливингстону - товарищам X. Нокса по Принстонскому колледжу. Все они приняли участие в судьбе Гамильтона и, посовещавшись, направили его в школу города Елизабеттауна (Нью - Джерси) для подготовки в колледж. Там он изучал математику, географию, древние языки, литературу, рьяно наверстывая упущенное.
Врожденные обаяние и благородство открывали перед Гамильтоном многие двери. Его приветил Уильям Ливингстон из влиятельнейшего нью-йоркского клана крупных землевладельцев, который и ввел Гамильтона в круг друзей дома; то были солидные молодые люди из лучших семей центральных колоний: У. Александер - будущий генерал, Дж. Джей, Д. Дюан и др. Все они впоследствии заняли видное место в его жизни.
В колониях назревали большие события, но в "добропорядочном" консервативном обществе Елизабеттауна, стоявшего в стороне от политических страстей больших городов, все было сравнительно спокойно: его члены верили в мудрость и благосклонность короны и надеялись, что смутным временам скоро придет конец.
После года напряженной учебы Гамильтон подал документы в лучший тогда Принстонский колледж, но тамошние опекуны не согласились с требованием абитуриента принять его сразу на старший курс. Пришлось искать заведение посговорчивей - таковым оказался Королевский колледж Нью - Йорка (позднее переименованный из патриотических соображений в Колумбийский), который принял Гамильтона на его условиях.
В колледже он много и усердно работал; именно там был заложен фундамент его основательного образования. Среди настольных книг Гамильтона - классические сочинения Горация, Локка, Монтескье, Юма, Блэкстоуна, Пуффендорфа. Он верховодил в студенческом ораторском клубе, много писал в газету колледжа. Всеобщим увлечением быстро становилась политика, и на традиционных студенческих диспутах все чаще раздавались тирады о тирании парламента и неотъемлемых правах колоний. Хотя президент колледжа доктор Купер строго придерживался проанглийского направления, ветры времени проникали и сквозь толстые стены Королевского колледжа. В двух шагах от него находились так называемые "поля", где у "столба свободы" собирались толпы горожан и звучали зажигательные речи.
В нью-йоркском обществе, как в зеркале, отражалась общая расстановка политических сил в ходе освободительной борьбы колоний.
Важный торговый и промышленный центр Нью - Йорк отличался от крупных городов колоний большей степенью социального и имущественного неравенства. На одном полюсе - консервативная элита, состоящая из нескольких сплетенных родственными узами семейных кланов - Ливингстонов, Скайлеров, Ранселяров, Ван Шааков и захватившая в свои руки львиную долю торговли и землевладения провинции. На другом - городская беднота: наемные рабочие, ремесленники, матросы, практически лишенные экономических и политических прав. Это резкое расслоение и в прошлом порождало острые классовые столкновения, начало же открытой борьбы колоний с метрополией еще больше стимулировало активность низов.
Уже в 1765 году в Нью - Йорке, как и в других городах колоний, было создано нелегальное общество "Сыны свободы", которое стало организатором всей кампании по бойкоту импорта английских товаров, развернутой в ответ на закон о гербовом сборе. Возглавляемые радикально настроенными мелкими торговцами, нью-йоркские "Сыны свободы" выступали не только за наиболее энергичные методы сопротивления имперской политике, но и требовали больших политических прав для себя, угрожая власти местной элиты. Грозные народные выступления осени 1765 года в Бостоне и Нью - Йорке с их насильственными действиями: разрушением собственности английских чиновников и сотрудничавших с ними местных богатеев, - вышли за рамки чисто антиколониального протеста, вызвав тревогу лидеров буржуазии. Вспыхнувшая освободительная борьба поставила их перед серьезной проблемой: как отстоять руками народа свои экономические и политические привилегии от посягательств короны извне и в то же время уберечь их от напора разбуженных народных масс изнутри?
После отмены в 1771 году закона о гербовом сборе и законов Тауншенда о введении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых колониями из Англии, в портовых городах установилось временное затишье. "Все состоятельные люди, - докладывал в Лондон вице-губернатор Нью - Йорка У. Колден, - слишком хорошо сознают опасность бунтов и волнений, чтобы бросаться в комбинации, которые могут привести к беспорядкам в будущем". Но местные радикалы не теряли времени даром. По инициативе Самуэля Адамса из Бостона с конца 1772 года в городах начали создаваться "комитеты связи" - зародыши органов революционной власти, которые к 1774 году наладили связь между всеми колониями. Однако в Лондоне не желали отказываться от курса на установление более жесткого контроля над экономикой колоний. В мае 1773 года был принят злополучный "чайный закон", разрешавший английской Ост - Индской компании прямой беспошлинный экспорт чая в колонии.
Поскольку чай являлся тем единственным товаром, на ввоз которого после отмены законов Тауншенда был сохранен английский налог, закон этот не только ударил по карманам американских торговцев чаем и контрабандистов, но и создал опасный прецедент узаконивания налогообложения колоний и угрозу распространения торговой монополии Англии на другие виды товаров. Таким образом, сословная солидарность торговцев была разбужена. Радикалы тоже не преминули воспользоваться обстановкой: операция бостонских "Сынов свободы" по уничтожению первой партии чая в декабре 1773 года, вошедшая в историю под названием "бостонского чаепития", всколыхнула все колонии. Правительство Норта ответило огнем. В марте 1774 года были приняты так называемые "нестерпимые законы": порт Бостона блокирован, в городе размещены войска, Массачусетс фактически лишен самоуправления. Самый "нестерпимый" квебекский акт присоединял к Британской Канаде земли северо-западнее Аллеган и запрещал колонистам всякую хозяйственную деятельность в этом огромном районе. То была последняя капля, переполнившая чашу терпения американцев.
В Нью - Йорке "Сыны свободы" и возглавляемый их лидерами Исааком Сайером и Александром Макдугаллом "комитет связи" вопреки предостережениям консерваторов постановили не допустить разгрузки кораблей с чаем, идущих к Нью-Йорку, и объявили всех, кто участвовал в продаже мерзостного напитка, "врагами родины". В апреле 1774 года два английских судна с чаем подошли к городу. Капитан одного из них, получив тревожную записку от губернатора, благоразумно повернул назад. Но второй попытался провести бдительных нью-йоркцев, за что был едва не растерзан толпой в порту, а дорогой груз отправился на дно. Так 22 апреля произошло "нью-йоркское чаепитие". "Сыны свободы" праздновали победу, а радость местных богачей вновь была отравлена зрелищем народного самоуправства. Тем не менее они не собирались уступать черни политического лидерства. Нью-йоркская буржуазия, тесно связанная деловыми узами с метрополией, породила много ярых лоялистов - противников разрыва с Англией. Но нашлись и там более здравомыслящие деятели.
13 мая 1774 г. из воспаленного нерва колоний - оккупированного Бостона в Нью - Йорк пришло послание с просьбой о помощи и призывом прервать все торговые отношения с Англией. На митинг, созванный по этому поводу 19 мая, явились представители не только радикальных организаций - "Сынов свободы" и организованного накануне "Общества ремесленников", но и умеренного буржуазного крыла торговцев и юристов во главе с Джоном Джеем и Джеймсом Дюаном. Следуя принципу "не можешь одолеть - присоединяйся", они вознамерились оседлать стремительно нараставшую волну антиколониального протеста. В острой борьбе этих группировок родился новый "комитет связи" - "комитет 51", в котором умеренные имели 27 голосов.
Смысл возросшей активности Джея и его сторонников не укрылся ни от одной из сторон. "Богатые и изобретательные люди, - предупреждал автор одного демократического памфлета, - в последнее время проползают в комитеты, произнося праведные речи и присоединяясь к нашему делу, дабы не дать ему развиваться слишком быстро и опасно... Они скоро подчинят вас тирании Британии или своей собственной, немногим лучшей". А вот как выглядела та же картина глазами другого очевидца - богатого нью-йоркского землевладельца и юриста Гавернира Морриса, который присутствовал на митинге 19 мая: "Справа от меня выстроились состоятельные люди; слева - ремесленники и им подобные, которые считают себя вправе бросать свою ежедневную работу во имя блага страны... Чернь начинает думать и размышлять. Бедные рептилии! Для них наступило весеннее утро; они стремятся сбросить свою зимнюю шкуру, нежатся на солнышке, а к полудню начнут кусаться. Обуздать их невозможно". "Но хитрость иногда сильнее силы, - раскрывает Моррис предысторию создания "комитета 51", - и для того, чтобы хорошенько надуть их, избирается комитет патрициев, которому вручается мандат на величайшее доверие его величества народа... Они будут обманывать народ, терять его доверие. И если эти случаи политиканства, с одной стороны, и вероломства, с другой - будут учащаться, тогда прощай, аристократия! Я предвижу со страхом и трепетом, что если наши ссоры с Британией будут продолжаться, мы окажемся под самым худшим из всех владычеств - владычеством мятежной черни. Поэтому в наших общих интересах стремиться к воссоединению с родительским государством".
Иронизирующий над ударившимися в демагогию собратьями, Моррис скоро и сам присоединится к ним и впоследствии станет одним из "отцов-основателей", но пока и умеренные не помышляли о разрыве с "родительским государством". Новый комитет, доносил в Лондон вице-губернатор Нью - Йорка, составлен из "наиболее здравомыслящих торговцев и разумных людей, которые будут стремиться избегать крайних мер".
В ответ на призыв бостонцев "здравомыслящие люди" в Нью - Йорке развели руками, предоставив право принятия решения намечавшемуся съезду представителей колоний. Но первый континентальный конгресс, собравшийся в сентябре 1774 года в Филадельфии, не оправдал их надежд. Поддержанный Джеем и Дюаном план Галлоуэя о восстановлении союза с Англией был провален, хотя и минимальным большинством. Под давлением решительно настроенных народных масс большинство делегатов потребовало отмены всех репрессивных законов и учредило ассоциацию для осуществления полного бойкота торговли с Англией. И хотя в заключение была принята верноподданническая петиция королю, решения конгресса фактически поставили противников решительных мер вне закона. В стремнине надвигавшегося конфликта брод все сужался, лагерь буржуазии расслаивался на вигов и тори: первые были вынуждены смыкаться с радикальными силами, вторые вставали на позиции открытой борьбы с патриотами. Так расходились пути вчерашних друзей, единомышленников, а порой - и близких родственников.
Какую же роль в этой стремительно разыгравшейся драме событий играл юный Гамильтон? С самого начала он проявил себя убежденным вигом. По преданию, уже 6 июля 1774 г. он произнес свою первую горячую речь на митинге "Сынов свободы". Бесспорных доказательств тому не сохранилось, но этот эпизод вполне согласуется с дальнейшим поведением Гамильтона. Не прекращая занятий в колледже, он с жаром бросается в памфлетную войну, которая велась тогда в колониях. Юный студент ввязался в схватку с одним из самых искушенных идеологов из лагеря тори - английским священником Самуэлем Сибери, оспаривавшим решения первого континентального конгресса. В конце 1774 - начале 1775 годов он публикует два больших памфлета - "Полное оправдание мер конгресса" и "Опровержение Фермера" (под маской "Фермера" скрывался Сибери).
В этих первых значительных выступлениях Гамильтона уже проглядывают те мастерство аргументации и дар убеждения, которые впоследствии превратили его в одного из лучших полемистов своего времени. Он свободно пользуется естественноправовой теорией и толкованием английских законов для доказательства правомочности борьбы колоний за свои права; выступает за решительный торговый бойкот Англии как единственное средство, кроме войны, способное вынудить ее к отступлению: "безотлагательность ситуации требует решительных и надежных мер". Подобно другим идеологам вигов, Гамильтон еще не помышляет о независимости, считая идеальным исходом воссоединение с короной на основе восстановления прав и привилегий колоний. Все эти рассуждения опираются на доводы, уже разработанные к тому времени в работах ведущих идеологов колоний, - "Обзоре прав британской Америки" Т. Джефферсона, "Рассуждении о власти парламента" Дж. Вильсона, "Массачусетских письмах" Дж. Адамса. Более оригинален гамильтоновский анализ соотношения сил двух сторон.
С цифрами в руках он доказывает, что главная сила колоний - в уже достигнутой степени экономической самостоятельности, а также в огромных потенциальных ресурсах для будущего развития. Даже полное прекращение торговли с Англией в результате обострения отношений не пугает его. "Мы можем прожить и вовсе без торговли. Одеждой и продовольствием мы обеспечены, климатические условия дают нам хлопок, шерсть, лен, коноплю... Руки, освободившиеся в результате прекращения торговли, могут быть заняты в различных отраслях промышленности и других внутренних усовершенствованиях". Больше того, вынужденная экономическая изоляция может стать благом: "Если в случае необходимости у нас образуется и укрепится фабричное производство, то оно проложит путь к еще большей славе и величию Америки и, сокращая потребность во внешней торговле, сделает страну менее уязвимой для посягательств тирании". Уже тогда Гамильтон связывал грядущее величие Америки с индустриальным развитием.
Даже если Англия рискнет пойти на большую войну, то и в этом случае все преимущества будут на стороне колоний: удаленность метрополии, обширность театра военных действий, способность колоний выставить численно превосходящую армию, которая, избегая решительных сражений, измотает английские войска. Что касается ресурсов для обеспечения армии, то "мы обладаем ими в избытке". К тому же автор предвидит и большие внешнеполитические возможности, связанные с использованием против Англии ее соперников в Европе: "Франция, Испания и Голландия найдут способы снабдить нас всем необходимым".
Восемнадцатилетний Гамильтон лучше многих своих старших собратьев по перу видит разгорающийся конфликт в его материальном измерении, никогда не забывая о том, что в войнах и революциях побеждают не только идеи, но и финансы, дипломатия, снабжение. В этих его первых работах еще встречаются пылкие риторические восклицания о "священных правах человечества", "начертанных, как солнечным лучом, рукой всевышнего в книге человеческой природы", но это уже островки в море хладнокровного анализа, порой граничащего с откровенным цинизмом. Приведя афоризм Юма о том, что в каждом человеке должно подразумевать подлеца, он распространяет эту формулу и на поведение государств. Когда Сибери напоминает о жертвах метрополии и призывает учесть ее интересы, Гамильтон, в отличие от большинства памфлетистов колоний, не вдается в рассуждения о степени добродетельности обеих сторон, а апеллирует к их естественному эгоизму. "Гуманность не требует от нас жертвовать своей безопасностью и благополучием для удобства или интересов других. Самосохранение - вот главный закон человеческой природы. Когда на карту поставлены наши жизни и собственность, было бы глупо и неестественно воздерживаться от мер, способных сохранить их, только по той причине, что они могут причинить ущерб другим". Таков был неподдельный голос молодой американской буржуазии, кровно задетой притязаниями короны на свой карман.
Памфлеты Гамильтона, включая и третий, направленный против квебекского акта, получили значительный резонанс в колониях. Имя его стало известно лидерам вигистской буржуазии. "Надеюсь, что мистер Гамильтон продолжит свою деятельность", - писал после публикации первого памфлета Джей.
Почему же, в отличие от Джея и ему подобных, которых революция влекла за собой помимо их желания, Гамильтон сам пришел к ней? Его консервативные проанглийские убеждения, окружение в Елизабеттауне и Нью - Йорке, из которого вышло много лоялистов, - все, казалось, было против этого. Сам Гамильтон позднее объяснил, что отказался от своих "крепких лоялистских предрассудков" ввиду "превосходящей силы аргументов в пользу американских требований". Самый основательный из современных американских биографов Гамильтона - Б. Митчелл считает, что причина была в "энтузиазме молодости, любви к законности и свободе". Но можно найти и более весомое объяснение.
Что могло дать ему, безвестному провинциалу, колониальное общество? В самом лучшем случае - положение преуспевающего юриста. Революция размывала старый порядок: власть империи рушилась, влияние прежней колониальной аристократии падало, возникал какой-то видоизмененный строй жизни, дело создания которого открывало для людей таланта и энергии новые, невиданные доселе возможности. Гамильтон, несомненно, ощущал их дразнящий запах: "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!". Революция могла дать ему все; терять же, в отличие от Джея, Ливингстонов и пр., ему было нечего. Мог ли он, сжигаемый страстью "вознести себя", упустить такой шанс?
Примыкание Гамильтона к освободительному движению колоний вовсе не означало безоговорочного принятия его во всей полноте. В "Опровержении Фермера" он теоретически признает право народа на восстание - это было необходимо для оправдания неповиновения колоний. Но такое право, по его мнению, могло быть использовано в исключительно редких случаях, определение которых, равно как и само его осуществление, является привилегией просвещенных руководителей, а отнюдь не слепой черни. Стихия народного возмущения ненавистна ему, опасность выхода взбудораженных масс за пределы дозволенного слишком очевидна. Он видел это воочию, когда 10 мая 1775 г. разъяренная толпа патриотов собралась у Королевского колледжа, чтобы проучить, как водится, дегтем и перьями его президента - Купера, заядлого тори. Джентльмен в руках черни - возможно ли это? Гамильтон бросается им навстречу, произносит горячую речь о святом деле свободы и ...дает Куперу возможность благополучно улизнуть. До глубины души возмутил Гамильтона и другой случай народного самоуправства - учиненный осенью 1775 года "Сынами свободы" разгром типографии лютого врага патриотов, крупнейшего издателя-тори Джеймса Ривинг-тона. "Не могу не осудить этот акт, - пишет он в Филадельфию Джею. - В такие тревожные времена, как нынешние, когда страсти народа разгорячены сверх обыкновенного, существует большая опасность фатальных крайностей. То же самое возбужденное состояние большинства, не наделенного здравомыслием и знанием, необходимыми для самоконтроля, которое направлено против империи и угнетения, вполне естественно приводит его к презрению и пренебрежению ко всякой власти. Такие бурные времена требуют от политических кормчих величайшего искусства для того, чтобы держать людей в нужных рамках..." Весьма удивительное "здравомыслие" для 18-летнего юноши, охваченного революционным энтузиазмом.
Однако, невзирая на опасения осторожных, развитие событий неумолимо вело к углублению разрыва с Англией и вооруженной борьбе за независимость. 23 апреля зазвонили все нью-йоркские колокола - в город пришла весть о первых выстрелах под Лексингтоном и Конкордом. "Сыны свободы" захватили таможню и арсенал, аристократы расползлись по своим имениям, реальная власть в городе перешла к преемнику "комитета 51" - "комитету 100", большинство в котором с трудом удерживали умеренные.
Решения второго континентального конгресса, собравшегося 10 мая 1775 г. в Филадельфии, о создании континентальной армии под командованием Вашингтона, первое настоящее крещение патриотов в бою при Бенкер - Хилле ставили в повестку дня вооруженную борьбу, хотя надежды на примирение с короной, как видно из одновременно принятой петиции "оливковой ветви", адресованной королю, еще сохранялись. Даже после августовской королевской прокламации о состоянии бунта в колониях и создания в конце года "комитета тайных сношений" по делам обеспечения иностранной помощи до полного разрыва с метрополией оставался еще один шаг - провозглашение независимости. Сделать его можно было, лишь окончательно низвергнув авторитет самой короны. Это блестяще проделал Томас Пейн в своем знаменитом памфлете "Здравый смысл", появившемся в начале января 1776 года. "Здравый смысл", - отметил тогда Вашингтон, - производит сильные изменения в умах людей". Одна из ведущих газет колоний писала: "...Все прежние предрассудки и расчеты в пользу примирения рассеиваются, как утренний туман...". Борьба колоний вступала в новую фазу.
Для Гамильтона выбор был ясен. Первые выстрелы сразу же разбудили юношеские мечты о ратных подвигах, по сравнению с которыми учеба казалась скучной бессмыслицей.
В январе 1776 года конгресс провинции Нью - Йорк постановил создать артиллерийскую роту для защиты города. 14 марта Гамильтон после настойчивых прошений и блестящей сдачи экзаменов получил командование ротой и капитанские эполеты.
* * *
С упоением отдался вчерашний студент новому для него военному ремеслу. Остатки сбережений пошли на экипировку доморощенных артиллеристов. Палкой и личным примером он превратил свою роту в образцовую по стандартам ополчения часть, сам прослыл способным и дельным офицером. Но до настоящих боев дело пока не доходило - войска континентальной армии и ополчения осенью 1776 года отступали от Нью - Йорка. Гамильтону удалось блеснуть только в декабре при Трентоне, когда его пушки рассеяли полк гессенцев, готовившийся к контратаке. Вскоре он снова отличился в бою при Принстоне, прямым попаданием разрушив стену колледжа, где засели англичане. Согласно легенде, ядро пробило портрет его величества короля Георга III. В Принстон он вступил уже бывалым солдатом. "Юноша, даже подросток, небольшого роста, стройный, хрупкого сложения, в надвинутой на самые глаза треуголке, - вспоминал очевидец, - шагал погруженный в свои мысли рядом с орудием, задумчиво поглаживая его ладонью, как любимую лошадь или игрушку".
Вероятно, Гамильтон уже тогда попал в поле зрения командующего армией Вашингтона, который получил о нем хвалебные отзывы от генералов Н. Грина и У. Александера - старого знакомца Гамильтона по Елизабеттауну. После того как армия стала на зимние квартиры в Морристауне, Вашингтон вызвал молодого капитана и предложил ему пост своего адъютанта в звании подполковника. Гамильон колебался: успев вкусить пьянящее чувство боя, он и не помышлял о штабной работе. Однако отказывать командующему не так просто, и вот 1 марта 1777 г. был оглашен приказ по армии: "Александр Гамильтон, эсквайр, назначен адъютантом главнокомандующего; его следует уважать и слушаться в этом качестве". Судьба еще раз улыбнулась Гамильтону. Новое назначение одним махом вырывало его из сотен безвестных младших офицеров и приближало к командованию всей армией, вводя в когорту молодых блестящих офицеров из окружения Вашингтона. Заслуженный военачальник был завален бумажной работой и нуждался в хороших помощниках. Его требования к ним были просты и определенны: прежде всего - они должны быть выходцами из хороших семей, "что же касается военных познаний, то я не рассчитываю найти джентльменов, очень в них искушенных, - писал Вашингтон - Если они могут составить хорошее письмо, быстро писать, быть усердными и аккуратными, то это все, чего я от них жду..."
Гамильтон мог много больше того и скоро сделался для Вашингтона необходимым. Ясная голова, лаконичный, отточенный слог, быстрое неутомимое перо и исполнительность - это был идеальный адъютант. Гамильтон не только составлял приказы главнокомандующему и другие документы по войскам, но и вел его официальную переписку с конгрессом. Сближение с Вашингтоном - самой влиятельной фигурой колоний имело огромное значение для всей последующей политической деятельности Гамильтона, а штаб главнокомандующего с его атмосферой боевого товарищества, окружавшей Вашингтона, и питавшими к нему сыновью привязанность адъютантами заменил ему так не достававшие с детства семью и дом.
Новая роль Гамильтона не осталась незамеченной в Нью - Йорке. Члены "комитета связи" штата Г. Моррис и Р. Ливингстон сразу же предложили адъютанту главнокомандующего роль доверенного информатора. Местные деятели в Нью - Йорке, как и в других штатах, настороженно следили за деятельностью конгресса и положением в армии. Гамильтон с удовольствием ухватился за это предложение: нью-йоркские воротилы были нужны ему не меньше, чем он им. Доверительное знакомство с этими людьми открывало доступ в узкий круг элиты штата.
Начав с освещения чисто военных вопросов, Гамильтон с присущим ему апломбом вскоре перешел к изложению своих рецептов по другим проблемам, и нью-йоркский конвент не одернул выскочку - говорил сведущий и разумный человек, к его мнению стоило прислушаться. В мае 1777 года Гавернир Моррис даже прислал ему на отзыв проект конституции Нью-Йорка, один из самых консервативных в стране. Гамильтон одобрил "мудрую и превосходную систему", но высказал ряд замечаний, в частности возражения против всеобщих выборов губернатора и ограниченности его полномочий. "Я чрезвычайно рад, - почтительно отвечал Моррис, - что наша форма правления получила ваше одобрение". На начальном этапе развития освободительной борьбы Гамильтон сохранил еще и некоторые ортодоксально-республиканские взгляды; так, он осуждал деление легислатуры на две палаты - ассамблею и сенат, который "будет тяготеть к превращению в чисто аристократический орган". Однако очень скоро он окончательно избавился от остатков демократических увлечений юности - решающую роль в этом сыграли личные

Гавернир Моррис
Летние (1777 г.) донесения Гамильтона в Нью-Йорк полны оптимизма, веры в скорую победу. В июне он сообщает о том, что, ввиду растущего численного перевеса американских войск, к концу лета, видимо, наступит решительный перелом - "затягивание войны погубит противника". Хотя в конечном счете он оказался прав, ошибившись лишь в сроках, на рубеже 1777-1778 годов ситуация складывалась совсем иначе: затягивание войны губило не англичан, а континентальную армию. После победы под Саратогой в октябре 1777 года последовала печально известная зимовка в Вели - Фордж, обескровившая армию сильнее, чем самые крупные сражения войны: около двух с половиной тысяч человек умерло от голода и болезней, что составило более трети боевых потерь за всю войну, почти столько же дезертировало. А в те же дни неподалеку от расположения агонизирующей армии, в городке Ланкастер, как сообщали местные газеты, был устроен бал. "Более сотни изысканно одетых леди и джентльменов собрались насладиться холодным ужином с вином, пуншем, тортами. Музыка, пение и танцы продолжались до рассвета". Благоденствовали не только в Ланкастере, но и почти повсюду. Ресурсы страны были действительно огромны, как доказывал Гамильтон в своих памфлетах, дело заключалось в неспособности мобилизовать их.
Конгресс, лишенный необходимых финансовых и политических полномочий, не мог обеспечить сколько-нибудь сносного снабжения армии. Отданное на откуп крупным торговцам, оно тонуло в лихорадке спекуляции и наживы. Зимовка в Вели - Фордж заставила Гамильтона, и не только его, по-новому взглянуть на положение дел, былой оптимизм сменился отчаянием. "Слабые, нерешительные и неблагоразумные действия конгресса, - пишет Гамильтон в феврале губернатору штата Нью - Йорк Дж. Клинтону, - низвели нас до положения более ужасного, чем вы можете себе представить... Налицо постоянная нехватка всего самого необходимого и опасность распада от абсолютного голода". Поначалу корень зла Гамильтон усматривает в деградации конгресса. "Где они, великие люди, составлявшие наш первый совет, - умерли, бежали?" Нет, отвечает он, лучшие умы ушли в армию и разбрелись по штатам, центральная власть оказалась оголенной. "Представьте себе, каковы могут быть последствия в условиях, когда конгресс остается презираемым внутри страны и за рубежом. Как можно использовать все имеющиеся силы, если это вверено хилым, глупым и дрожащим рукам?"
В заключение Гамильтон призывает - "настало время для людей, обладающих авторитетом и пониманием, трубить тревогу и искать надлежащее противоядие... Перемены необходимы, сэр, иначе Америка содрогнется до самого основания".
Дальше общих призывов дело пока не пошло, да и ситуация вскоре потеряла остроту. К лету Вашингтону удалось укрепить армию, а главное - заметно упрочилось международное положение колоний. Их лидеры хорошо понимали, что в одиночку им не выстоять в борьбе с могущественной Англией. Поэтому главные усилия молодой американской дипломатии были направлены на получение иностранной помощи и внешнеполитическую изоляцию "владычицы морей", взявшей курс на подавление освободительного движения колоний. Естественными объектами этих дипломатических усилий были основные противники Англии в Европе - Испания и Франция, стремившаяся к реваншу за сокрушительное поражение в Семилетней войне с англичанами.
Наиболее дальновидные лидеры колоний сделали ставку на союз с Францией уже в 1775 году. Джон Адамс, отвечая на сомнения в том, что монархическая Франция станет воевать за интересы еще не появившейся на свет заокеанской республики, упрекал скептиков в конгрессе в непонимании "отношений между Францией и Англией. Несомненный интерес Франции состоит в том, что британские колонии на континенте должны быть независимыми; Британия в результате завоевания Канады, побед на море в последней войне и огромных территориальных приобретений в Америке и Индии оказалась вознесенной на высоту мощи и влияния, нестерпимую для Франции". Опираясь на ресурсы американских колоний и свое преобладание на море, Англия, добавлял Адамс, прямо угрожает остаткам французских владений в Западном полушарии, в первую очередь - Вест - Индии. Следовательно, "интерес Франции (к отделению колоний. - В. П.) настолько очевиден, а побудительные мотивы столь сильны, что только утрата здравого смысла в ее верхах сможет удержать Францию от соединения с нами".
Проблема, по Адамсу, заключалась не столько в нехватке, сколько в избытке заинтересованности Франции, поэтому, предупреждал он, "переговоры с ней должны вестись с большой осторожностью и всей возможной предусмотрительностью: нам не следует заключать с ней союз, способный возлечь нас в будущие европейские войны. Нашим первым принципом и неизменным правилом должно быть сохранение полного нейтралитета во всех предстоящих европейских войнах; не в наших интересах объединяться с Францией для разрушения или чрезмерного унижения Англии - наша подлинная, если и не всегда номинальная, независимость будет состоять в нейтралитете". Дабы избежать незавидной роли "марионеток, которых дергают за ниточки из кабинетов Европы", колонии должны идти только на заключение торговых договоров, которые будут, в частности для Франции, "достаточной компенсацией за всю требуемую от нее помощь", не говоря уже о том, что "само расчленение Британской империи явится для нее неоспоримым благом и укрепит ее безопасность. Это с лихвой окупит все усилия, которых мы от нее потребуем, даже если ей придется втянуться в очередную восьми- или десятилетнюю войну".
Хотя Адамс, как и другие его соотечественники, явно переоценивал значение торговли с североамериканскими колониями для Европы, эти его рассуждения предвосхитили генеральное направление американской внешней политики не только на период борьбы за независимость, но и на многие последующие десятилетия. Однако в глазах многих американских лидеров, которые не заглядывали столь далеко, как Адаме, опасности втягивания в европейские союзы перекрывались экстренной необходимостью получения помощи извне любым путем. О последствиях предпочитали не задумываться. "Для меня ясно, - писал Джею один из "отцов - основателей" Роберт Моррис в сентябре 1776 года, - что, умело используя очевидное расположение французского двора, мы вскоре сможем втянуть всю Европу в войну; ужасно, конечно, что ради своей собственной безопасности нам приходится вовлекать другие народы в бедствия войны. Справедливо ли это с точки зрения морали? Или же мораль и политика не имеют между собой ничего общего? Видимо, в настоящее время было бы неполитично углубляться в этот вопрос". Никто и не углублялся. Соблазн собственного освобождения чужими руками, пусть даже за счет развязывания новой европейской войны, был слишком велик, и "втягивание Европы в войну" стало путеводной звездой американской дипломатии. В ответ на просьбы американцев Франция начала помогать им оружием и деньгами уже с 1776 года, а к февралю 1778 года дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Париже, умело используя угрозу сепаратных переговоров с Англией, добилась заключения договоров с Францией о дружбе и торговле и о военном "оборонительном союзе". Тем самым Франция не только первой признала независимость колоний, но и обязалась, как гласил текст договора о союзе, "не складывать оружия, пока независимость Соединенных Штатов не будет официально или негласно обеспечена договором, который прекратит войну". Союз с крупнейшей европейской державой радикально изменил соотношение сил в войне за независимость в пользу колоний, тем более что вслед за Францией на их стороне в войну вступили Испания и Нидерланды, имевшие свои счеты с Англией. Американской дипломатии удалось натравить европейские монархии друг на друга, с блеском использовать в своих интересах отмеченную В. И. Лениным "рознь между французами, испанцами и англичанами". То обстоятельство, что американская республика смогла появиться на свет только благодаря умелому использованию международной обстановки в духе политики "баланса сил", признавалось и самими "отцами - основателями". На конституционном конвенте 1787 года Дж. Мэдисон, говоря о причинах достижения колониями независимости, поставил на первое место отнюдь не энтузиазм американцев в борьбе с тиранией, а соперничество между Англией и Францией, которому "мы, по всей видимости, обязаны нашей свободой".

Роберт Моррис
Немаловажную роль в борьбе колоний за независимость сыграла и позиция другого гиганта мировой политики - далекой России. На берегах Невы были неплохо информированы о разгоревшемся за океаном конфликте и оценивали его ход и перспективы более трезво, чем при дворе Георга III. Екатерина 11, скептически относившаяся к способностям своего августейшего английского собрата, в том числе и к его колониальной политике ("в дурных руках все становится дурным"), считала "отпадение Америки от Европы" делом неизбежным. Более того, независимость колоний, как докладывала императрице коллегия иностранных дел летом 1779 года, отвечает интересам России, поскольку она будет способствовать расширению русской торговли с Англией и самой Америкой, а также ослабит доминирование Англии над торговлей в бассейне Балтийского моря. Это расхождение интересов двух великих держав учитывалось и деятелями самих колоний в их внешнеполитических расчетах. Неприязнь к английской гегемонии, писал Гамильтон Р. Ливингстону летом 1777 года, помешает России прийти на помощь Англии в ее войне с повстанцами.
В то же время поддержание отношений с Англией было важнейшим условием эффективности тогдашней внешнеполитической стратегии России в Европе, направленной на создание "северной системы": объединение усилий России, Англии и Скандинавских стран для противодействия росту влияния Франции и Австрии. Именно эти соображения реальной политики и собственных интересов Российского государства, а вовсе не сочувствие Екатерины II борьбе колоний определили суть позиции России, сводившейся к тому, что она "явно вспомоществовать Англии противу колоний не станет". Еще в 1775 году Екатерина решительно отвергла просьбу Георга III о посылке русского экспедиционного корпуса для усмирения североамериканских "бунтовщиков". В 1778-1779 годах, когда вступление в войну Франции и Испании еще более обострило для англичан проблему поиска союзников, Россия вновь ответила отказом на настойчивые предложения англичан о заключении "оборонительного союза", твердо следуя своему курсу строгого нейтралитета. В сложившейся тогда обстановке такой курс был явно в пользу американцев, которые, по словам Дж. Вашингтона, были "немало обрадованы, узнав, что просьбы и предложения Великобритании русской императрице с презрением отвергнуты".
Значение России в борьбе колоний за независимость еще более возросло в связи с провозглашением ею в феврале 1780 года знаменитой декларации "О вооруженном нейтралитете" и образованием вслед за этим Лиги нейтральных стран во главе с Россией. Предназначенная для защиты торговых интересов нейтральных государств и ослабления господства Англии на морях, лига в немалой степени содействовала дипломатической изоляции последней и улучшению международного положения молодой заокеанской республики. Недаром ее лидеры высоко оценили эту инициативу России, а континентальный конгресс принял специальное постановление, полностью одобрявшее декларацию "О вооруженном нейтралитете" и уполномочивавшее американских представителей за границей поддержать провозглашенные Россией принципы нейтрального мореплавания, полностью отвечавшие интересам американской торговли.
Хотя в 1778-1779 годах военная обстановка стабилизировалась и соотношение сил постепенно менялось в пользу американцев, финансово-экономическое положение конфедерации становилось все более плачевным. Не имея самостоятельных источников дохода в виде федеральных налогов или пошлин, конгресс для финансирования войны наращивал эмиссию бумажных денег. Предполагалось, что штаты введут достаточно высокие налоги и смогут вывести из обращения избыточное количество денег, выплачивая конгрессу установленную для каждого штата сумму ежегодного взноса. Но штатам это оказалось не под силу: в 1777-1779 годах вместо востребованных 95 миллионов долларов они смогли уплатить лишь половину, при этом они сами начали выпуск бумажных денег. В результате доллар катастрофически быстро обесценивался: в 1778 году - в 7 раз, к концу 1779 года - в 42 раза. Цены соответственно взлетали, и инфляционная спираль неумолимо раскручивалась - с тех пор в Америке прижилась поговорка: "Не стоит и континентального доллара". Чтобы не голодать, армия была вынуждена реквизировать продовольствие у населения в обмен на сертификаты, а часто и просто под расписку. Только квартирмейстерская служба и ведомство продовольственных закупок выдали таких сертификатов на сумму в 95 млн. долл. Армия оставляла после себя груды ничего не стоящих бумажек, вызывая озлобление населения. "Мы начинаем ненавидеть страну за пренебрежение к нам, а она начинает ненавидеть нас за наши притеснения", - с горечью резюмировал Гамильтон.
Между тем количество бумажных денег в обращении вплотную приближалось к роковой цифре - 200 миллионов долларов - пределу, установленному конгрессом в 1779 году. Над ним нависла угроза банкротства, и если бы не иностранная, в первую очередь французская, военная и финансовая помощь (2,1 миллионов долларов золотом в одном только 1779 т), которая обеспечила закупки вооружения и выплату процентов крупным держателям займов, исход освободительной войны мог бы быть иным.
Всецело уповая на помощь союзников, скованный инфляцией конгресс начал резко сокращать военные расходы; Вашингтон в 1779 году уже не планировал крупных операций - война превращалась в топтание на месте.
Это раздражало людей действия типа Гамильтона. Он бросается от одного прожекта к другому. В начале 1779 года вместе со своим другом Джоном Лоуренсом, тоже адъютантом Вашингтона, он выдвигает идею усилить отступающие на Юге части негритянскими батальонами, набранными в тех же районах. В восточных штатах и Новой Англии набор негров в армию был уже узаконенным делом. Рабам обычно предоставлялась свобода, а их владельцам - денежная или земельная компенсация. Черные солдаты показали себя с самой лучшей стороны, их боевые качества высоко оценивались самим Вашингтоном. Лоуренс и Гамильтон решили распространить эту практику и на южные штаты. В специальном письме тогдашнему президенту конгресса Джею Гамильтон со своеобразной смесью расовой "терпимости" и аристократического апломба обосновывал свой проект: "Презрение, которому мы научены в отношении черных, порождает нелепые мнения, не подтверждаемые ни рассудком, ни опытом". Между тем "их природные способности ничуть не хуже наших", а "недостаток развития в сочетании с приобретенной в неволе привычкой к подчинению позволит сделать из них солдат быстрее, чем из наших белых соотечественников. Пусть офицеры будут людьми ума и чувства, солдаты же чем больше походят на машины, тем лучше".

Джон Лоуренс
Лоуренс отправился в родную Южную Каролину воплощать идею в жизнь, вооруженный рекомендацией конгресса о наборе 3 тысяч черных солдат с денежной компенсацией владельцам в размере тысячи долларов за человека. По вполне понятным причинам, его миссия не дала результатов: рабовладельцы отнюдь не горели желанием подставлять под огонь СБОЮ живую собственность, стоимость которой, в отличие от денег конгресса, всегда оставалась стабильной, тем более их вовсе не привлекала идея вооружать рабов. Великий проект двух энтузиастов лопнул, что лишний раз подтвердило правильность их оценки сложившегося положения в целом и "бескорыстия" своих соотечественников в частности. "Эти надежды - пустые мечты, мой друг, - писал Гамильтон Лоуренсу, - все убеждает нас в том, что в Америке нет добродетели, что торгашество, освятившее рождение и становление этих штатов, держит их обитателей на цепи и единственное их желание - чтобы она была золотой".
Однако Гамильтон не из тех, кто способен долго пребывать в оцепенении отчаяния. Служба в штабе армии и положение доверенного секретаря главнокомандующего представляли великолепные возможности для ознакомления с военными, экономическими и политическими проблемами страны. При этом все изъяны конфедерации, как бы сфокусированные в ее военной беспомощности и бедствиях армии, представали перед Гамильтоном со всей очевидностью. Офицерство единодушно кляло конгресс и засевших в тылу политиканов, но лишь единицы, посвященные, подобно Гамильтону, во все детали происходящего, всерьез задумывались о путях выхода из создавшегося положения, и, пожалуй, никто не искал их с таким рвением, как он. Роль пассивного наблюдателя серьезных событий никогда не устраивала Гамильтона. Именно в эти дни он выписывает в свою походную тетрадь примечательные строки из Демосфена, ставшие его девизом: "Как генерал идет впереди своих войск, так и мудрые политики должны идти во главе всех дел... Им не следует дожидаться событий, чтобы решить, какие принять меры; напротив, принимаемые ими меры сами должны производить эти события".
Мозг Гамильтона лихорадочно работает. Коль скоро проблемы страны конкретны и материальны, то и средства их решения должны быть такими же. Абстрактные рассуждения о "естественных правах" и прекраснодушные упования на "природный энтузиазм республиканцев" не помогут там, где все дело в финансах, снабжении, управлении. Недаром он возит с собой небольшую библиотечку по коммерции, финансовому и банковскому делу.
После долгих размышлений во время голодной зимовки 1779-1780 годов в Морристауне - втором Вели - Фордже у Гамильтона созревает новый амбициозный план. Он излагает его в письме к члену конгресса, имя которого точно не установлено. Это замечательный документ, по существу, экономический манифест Гамильтона, изложенный сухим языком расчетов и цифр. Обращаясь к одному из сильных мира сего, он отбросил всякую риторику, изъясняясь с предельной откровенностью. Вместе с тем тон письма таков, будто на плечах его автора уже лежит тяжесть принятия важнейших для страны решений.
Главная проблема, считает Гамильтон, - это "состояние денежной системы". Деньги - нерв войны, но где их взять? Конгресс не полномочен вводить налоги, да и насколько они окажутся эффективными? "Налоги ограничиваются не только богатством государства, но и характером, привычками и настроениями населения, которые в этой стране не позволяют поднимать их высоко; что же касается займов, то людей не заставишь ссужать деньги обществу, когда налицо нехватки и они могут найти более прибыльные способы их использования, что мы и наблюдаем у себя".
Для преодоления нехватки капитала оставалось, следовательно, два пути: иностранные займы и какой-то новый способ мобилизации внутренних денежных ресурсов, осевших в карманах имущих. Последняя задача становилась все более насущной: до поры до времени войну "финансировала" сама инфляция, бумажные деньги, но долго так продолжаться не могло - кто-то, наконец, должен был оплатить. Необходимость привлечения капиталов богачей осознавалась не одним Гамильтоном. В этом сходились такие разные люди, как Т. Пейн и президент конгресса Дж. Рид, который в июне 1780 года писал Вашингтону: "В наших трудностях повинны не бедные, а богатые. До тех пор пока война велась при помощи эмиссии денег, содействие первых было не столь обязательным, участие же бедных было необходимо и необходимо сейчас, но при условии оплаты за их труды..." Словом, пусть бедняки воюют, а богачи должны хотя бы платить. Однако "помощь богатых" могла быть получена разными путями, и сложившаяся обстановка, казалось бы, подсказывала логичность принудительных мер. Ничто не может быть дальше от намерений Гамильтона: единственный, по его мнению, приемлемый способ укрепить финансы - это восстановить доверие толстосумов к центральной власти. "Только тот план может спасти денежную систему, - отчеканивает он, - который делает состоятельных людей непосредственно заинтересованными в сотрудничестве с государством для его осуществления".
Вот он, краеугольный камень всей философии правления Гамильтона, принцип простой и вместе с тем фундаментальный: чтобы государство было прочным, а финансовая система устойчивой, необходимо предоставить "состоятельным людям" контрольный пакет акций в управлении государством, неразрывно связав тем самым их корыстный интерес с необходимостью поддержания государственной стабильности. В какой же форме лучше всего осуществить эту унию государства и денежных мешков? Для Гамильтона это вопрос вопросов, он явно захвачен "величием" стоящей перед ним задачи ("Я чувствую, как распаляется воображение в проектах такого рода!"). Здесь-то и появляется у Гамильтона идея Национального банка как синтеза частнокапиталистических интересов и государства.
Он набрасывает схему создания банка: уставный капитал составляется из иностранного займа в 2 миллиона фунтов стерлингов и взносов вкладчиков на 200 миллионов континентальных долларов ("сумма подписки должна быть достаточно велика, чтобы привлечь значительное число наиболее богатых людей"). Банк будет предоставлять кредиты конгрессу и частным лицам; одна половина капитала и прибылей принадлежит государству, другая - частным пайщикам. Управление банком передается комитету частных попечителей под контролем государственных органов; банк, таким образом, является смешанным частногосударственным предприятием. Он учреждается на десятилетний срок, хотя, как полагает автор проекта, "вряд ли будет когда-либо ликвидирован, так как основывается на принципах, которые во все времена действуют безотказно".
Идея банка как панацеи от всех бед не была собственным изобретением Гамильтона. Он опирался на хорошо ему знакомый европейский опыт финансового и банковского дела. Основной моделью служил знаменитый Банк Англии, созданный еще в 1694 году для кредитования государства и ставший в XVIII веке эталоном надежности для всего мира. Создание банка стало излюбленной и неотвязной идеей Гамильтона.
Молодость, однако, брала свое, и даже среди тягот армейской жизни и размышлений о нуждах государства находились время и силы для занятий и увлечений, свойственных возрасту. Тесная дружба связала в годы войны Гамильтона с другими молодыми офицерами из окружения Вашингтона - уже упомянутым Джоном Лоуренсом, Дж. Макгенри, маркизом Лафайетом. Все они были одинаково молоды, одинаково одержимы романтикой войны и любовных похождений, подражали "кодексу чести" античных героев, смотрели на мир насмешливыми глазами 25-летних, но уже бывалых солдат и наслаждались, пока возможно, свободой и холостяцкой беззаботностью. "Что же касается проблемы жены, - шутливо наказывал Гамильтон Лоуренсу, отправившемуся за черными солдатами, - то уполномочиваю и приказываю достать мне таковую в Каролине... Вот ее портрет: она должна быть молода, красива (основной упор я делаю на хорошей фигуре), разумна (достаточно небольшого образования), хорошо воспитанна.., целомудренна и нежна, наделена хорошим характером и щедростью (я одинаково ненавижу сварливых и прижимистых), политические взгляды не имеют значения, думаю, что легко обращу ее к своим собственным. В вопросах веры удовлетворюсь умеренным рвением: она должна верить в бога и ненавидеть святош. Что же касается состояния, то чем оно больше, тем лучше. Ты знаешь мою натуру и обстоятельства и потому будешь особенно внимателен к этому пункту".
Шутки - шутками, но требования эти, особенно по последнему пункту, имели для него и вполне серьезный смысл. В глубине души он отчетливо сознавал, что при всех своих способностях и удачливости он все же не относится к числу "избранных" - родовитых и богатых, к которым всегда тяготел. Война на время нивелировала социальные градации в офицерской среде. Все они - и французский аристократ Лафайет, снарядивший в Америку целый корабль на свои средства, и сын богатейшего плантатора, президента конгресса - Лоуренс, и бездомный пришелец Гамильтон были детьми войны, товарищами по оружию; ну, а что будет потом? Избавиться от этих мыслей было невозможно, иногда горечь прорывалась наружу. В начале 1780 года конгресс отклонил его кандидатуру на пост секретаря дипломатической миссии в Париже. Гамильтон пишет в ответ на утешения Лоуренса: "...Но ведь я чужой в этой стране. У меня нет ни собственности, ни связей. Если я наделен, как ты утверждаешь, талантами и цельностью, то в наш просвещенный век они справедливо считаются пустыми достоинствами, если не обеспечены чем-то более существенным".
И вот летом того же года друзья узнают о помолвке "маленького льва", как они прозвали своего товарища за небольшой рост и рыжеватую шевелюру, с Элизабет Скайлер. Его нареченная была весьма недурна собой и без ума от голубоглазого подполковника, но слишком богата, чтобы не дать повод усомниться в искренности чувства своего жениха. Если же сомнения эти безосновательны, то ему, следовательно, чрезвычайно повезло: женись Гамильтон по дьявольскому расчету, он не мог бы сделать лучшего выбора. Отец Элизы - генерал Филипп Скайлер, ведущий свой род от первых голландских поселенцев, был не только одним из богатейших, но и одним из наиболее влиятельных людей Нью - Йорка. Он запомнил Гамильтона еще по его корреспонденциям и с удовольствием принял этого, правда, бедного, но происходящего из хорошего шотландского рода и столь многообещающего молодого человека. Это был последний и решающий шаг по пути превращения в полноправного члена нью-йоркской элиты.
Но матримониальные хлопоты не ослабили озабоченности Гамильтона положением дел в стране. Меньше всего он был способен замкнуться в лично-семейном благополучии. Война по-прежнему вела в никуда. В мае 1780 года капитулировал 5-тысячный гарнизон Чарльстона, в августе лорд Корнваллис разгромил войска генерала Гейтса в Южной Каролине. Но еще хуже обстояло дело с финансами. В марте конгресс, признав свое банкротство, провел ревальвацию бумажных денег в отношении 40 к 1, что отнюдь не остановило инфляции. Снабжение армии было передано властям штатов, и это еще больше усилило неразбериху. Измученная армия, голодающая в сытой стране; бессилие и безучастность конгресса в вопросах, решающих судьбу республики; вынужденное бездействие и поражения на фронте - неудивительно, что многим ее участникам война казалась нескончаемой эскалацией абсурда. "Полки, как правило, не достигают и половины своего состава, - писал Вашингтон конгрессу в конце 1780 года, - но и они испытывают острый недостаток во всем... У нас нет ни денег, ни кредита даже на покупку досок для дверей наших хибар... Если бы солдаты могли, подобно хамелеонам, питаться воздухом или, как медведи, сосать лапу и так перебиться в суровые дни наступающей зимы..." Не кто иной как Вашингтон называл тогда "историю войны историей обманутых надежд".
Но если такова была реакция уравновешенного, скупого на слова главнокомандующего, то его адъютант с максимализмом молодости доходил до крайности. Описывая Лоуренсу в октябре 1780 года бедствия армии, Гамильтон мрачно предрекает: "Если не принять срочных мер, больной умрет". Ему не занимать сарказма: "Наши соотечественники щедро наделены глупостью ослов и вялостью овец. Они твердо решились не быть свободными. Если что нас и может спасти, так это Франция и Испания... Политика нашего государства способна свести нормального человека с ума, я теряю голову, мой друг .., и всем высказываю свое мнение в сильных выражениях". В порыве ожесточения он проклинает все на свете: "Я ненавижу конгресс, ненавижу армию, ненавижу мир, ненавижу себя. Сплошная масса дураков и негодяев".
Искренность Гамильтона несомненна, его письма - живые свидетельства, раскрывающие подлинный характер войны, в которой руководители молодого государства сделали ставку на победу чужими руками - руками союзной Франции и Испании. Расчет оказался верным: помимо сильного флота Франция направила в Америку около 9 тысяч человек, американцы воевали в основном французским оружием, только в виде займов, субсидий и расходов на содержание своих войск в США Франция, Испания и Голландия потратили около 16 миллионов долларов в исчислении тех лет, тогда как военные расходы самих американцев составили, по разным подсчетам, от 100 до 125 миллионов долларов. Иностранная помощь, по мнению большинства серьезных историков, сыграла важнейшую роль в победе патриотов. Такой способ ведения войны прельщал лидеров американской буржуазии не только своей дешевизной; он был гораздо более безопасным с точки зрения поддержания своего политического господства, поскольку сокращал потребность обращения за поддержкой к народу и широкого его вооружения.
То, что стало спасением для американцев, обернулось подлинным бедствием для правления Людовика XVI. Союз с молодой, но не по возрасту предприимчивой республикой дорого обошелся одряхлевшему французскому абсолютизму. Банкротство королевской казны, усугубленное помощью союзнику, до крайности обострило ситуацию в стране. Специальный симпозиум американских и французских историков, посвященный 200-летию памятного союза, дал ему основательную, но запоздалую оценку, назвав "ошибкой для Франции, просчетом трагических масштабов". Его плоды, как отмечалось на симпозиуме, "были для Франции иллюзорными, победы - пустопорожними, а достижения - бессмысленными".
Но вернемся к Гамильтону. Чем больше он проклинает, тем глубже погружается в анализ ситуации и поиск новых путей. В те самые дни, когда он пишет это отчаянное письмо Лоуренсу, средь лагерной суеты Гамильтон заканчивает и другое послание - Джеймсу Дюану, в котором развивает свой предыдущий план.
На этот раз он не ограничивается рассмотрением чисто финансовых вопросов - он уже понял, что без укрепления политической власти не может быть речи о других реформах. Конфедерация продолжала оставаться разрозненным конгломератом бывших 13 колоний, почти не связанных друг с другом. Большинство членов конгресса жило исключительно интересами своих штатов. Гамильтону местничество было чуждо вдвойне: война, за ходом которой он следил с высоты главного штаба, приучала мыслить масштабами страны в целом, а сам он как иммигрант не имел глубоких корней нигде. Поэтому он так легко становится поборником "континентальных" взглядов и одним из первых и самых энергичных сторонников централизации власти. "Главнейший изъян - недостаток власти у конгресса ..,- начинает он письмо к Дюану. - Сама конфедерация порочна и должна быть изменена, она не годится ни для войны, ни для мира". Гамильтон подробно останавливается на слабостях конфедерации и предлагает конкретные способы их устранения. Финансирование и комплектование армии следует передать конгрессу, который должен быть наделен собственными финансовыми ресурсами, ибо "без источников дохода государство не может иметь никакой власти, она принадлежит тому, кто держит кошелек". Поэтому нужно ввести федеральные налоги - на землю, участие в выборах и др. В целом конгрессу должен быть предоставлен полный суверенитет в вопросах торговли, финансов и внешних сношений. На долю штатов остается защита собственности и благополучия их граждан, а также внутреннее налогообложение.
Усиление центральной власти, оговаривает Гамильтон, должно идти за счет создания новых министерств - военного, финансов, иностранных дел и военно-морского флота, во главе которых следует поставить "первых по способностям, собственности и принципам людей страны", а именно, расшифровывал Гамильтон: соответственно Ф. Скайлера, Р. Морриса и А. Макдугалла. Мощная постоянная армия, целиком зависящая от конгресса, станет наряду с имущим классом главной опорой сильной политической власти: "Конгресс будет иметь надежный фундамент власти со всеми последствиями. Для меня аксиома, что при нашей конституции армия необходима для союза".
Эту реорганизацию предлагалось осуществить путем созыва конституционного съезда для образования новой конфедерации. Но не будет ли противоречить такая власть республиканским понятиям свободы личности? "Ничто не представляется мне более очевидным, - невозмутимо отвечает Гамильтон, - чем-то, что мы рискуем гораздо больше со слабым и раздробленным федеральным правительством, чем с тем, которому окажется под силу узурпировать права народа". Система приоритетов ясна - права народа не в счет.
Приведя уже знакомые нам проекты финансовой реформы, автор подводит к сути дела, конечной цели всех этих планов: "Богатые американцы - разве они достаточно доверяют государству? Пусть же оно стремится вселить это доверие принятием предлагаемых мною мер или других, им равнозначных; пусть стремится создать прочную конфедерацию, необходимую структуру исполнительной власти, постоянную армию, заручится иностранными займами. Если все это будет делаться последовательно и решительно, то придаст новый импульс нашим делам: государство обретет авторитет, а люди - уверенность".
Так, к 23 годам у Гамильтона оформилась система взглядов на государство не только в теоретической, но и в практической плоскости. До конца дней он будет проводить ее в жизнь, приспосабливая к задачам дня. Но пока... Хотя Дюан и другие нью-йоркские покровители Гамильтона втихомолку одобряли планы их молодого протеже, обстановка для столь крупного поворота дел еще не созрела, центробежные тенденции в конфедерации были еще слишком сильны.
* * *
Заканчивался шестой год войны, четвертый год адъютантской службы, "а что сделано на поприще славы?" - спрашивал себя Гамильтон. "Сидение в адъютантах", не сулившее уже ничего нового и героического, начинало всерьез тяготить его. Честолюбие и возросшее за эти годы ощущение собственных возможностей восставали против режима беспрекословного подчинения Вашингтону, хотя и облеченного в безупречно джентльменскую форму. Гамильтон рвался на простор самостоятельности, неоднократно просился в бой, но каждый раз встречал непреклонный отказ главнокомандующего, которому он был гораздо нужнее в штабе.
В декабре 1780 года кандидатура Гамильтона была предложена на пост американского дипломатического представителя в Санкт - Петербурге, только что утвержденный конгрессом для налаживания отношений с Россией, и в первую очередь для присоединения США к "вооруженному нейтралитету" и заключения договора о дружбе и торговле между двумя странами. Посланником, однако, стал не Гамильтон, а массачусетский юрист Ф. Дейна, что в конечном счете обернулось благом для карьеры молодого адъютанта, ибо миссия Дейны оказалась весьма неблагородной: участие США как воюющей страны в "вооруженном нейтралитете" было невозможно уже по формальным основаниям, равно как и подписание договора с нейтральной Россией, - к концу же войны и сами американцы стали опасаться принятия на себя дополнительных обязательств в отношении европейских государств. В итоге после двух бесплодных лет в Санкт - Петербурге Дейна был отозван назад.
Наконец, в начале 1781 года некоторые влиятельные знакомые, в том числе генерал Грин, решили продвинуть Гамильтона на недавно учрежденный пост суперинтенданта - главы финансового управления конгресса. Дж. Вашингтон, не предполагавший в своем адъютанте столь специфических талантов , ответил отказом: "Не могу сказать, как далеко он зашел в изучении этих вопросов, поскольку никогда не обсуждал их с ним".
Постепенно у Гамильтона накапливалось раздражение против своего начальника, блокировавшего, как ему казалось, все пути к его продвижению. Немалую роль в ухудшении их отношений сыграла и история английского майора Андрэ, осужденного осенью 1780 года на смертную казнь за шпионскую связь с предателем Бенедиктом Арнольдом. Гамильтон, всегда ставивший сословную солидарность превыше всего, был пленен манерами, образованностью и мужеством аристократа Андрэ - своего сверстника и умолял Вашингтона отменить приговор или хотя бы заменить позорную виселицу на расстрел. Вашингтон не без колебаний отказал - важнее всего было дать урок многочисленным шпионам и изменникам. Казнь Андрэ потрясла Гамильтона. С неподдельным возмущением он пишет невесте о "некоторых лицах", "чувствительных только к политическим соображениям", подразумевая Вашингтона.
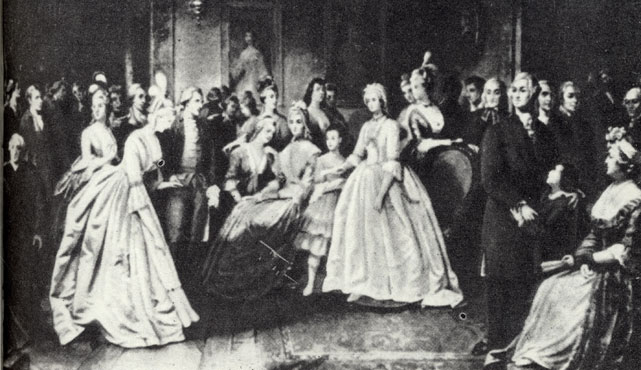
Прием у главнокомандующего Вашингтона в честь Гамильтона и его невесты
Женитьба на Элизабет Скайлер укрепила положение Гамильтона и, по-видимому, придала ему решимости. После состоявшейся в декабре 1780 года свадьбы он ждал только повода для того, чтобы покинуть штаб Вашингтона. Как-то в феврале следующего года в ответ на замечание главнокомандующего, которое показалось бы иным рубакам приторной учтивостью - "Сэр, вы заставили меня ждать целых десять минут. Должен заметить, что вы обращаетесь со мной неуважительно". Гамильтон вспыхнул: "Я этого не считаю, но если вы так думаете, то нам лучше расстаться". Последовавшая вскоре попытка к примирению со стороны великодушного генерала не имела успеха и "не в силу возмущения, - объяснял Гамильтон своему тестю, - а по причине сознательного соблюдения правил, давно выработанных мною для собственного поведения. Я никогда не любил должность адъютанта".
Разрыв этот не имел серьезных последствий для их взаимоотношений в будущем. Вашингтон по-прежнему высоко ценил своего бывшего адъютанта, с годами доверял ему все больше. Тот в свою очередь очень дорожил этим расположением и сохранял полнейшую лояльность.
Временно оказавшись не у дел, Гамильтон не терял времени даром. Чувствуя себя человеком, которому открылась истина, он активно пропагандирует свои идеи среди посвященных. Одним из них был Роберт Моррис, богатый филадельфийский торговец, назначенный в марте 1781 года суперинтендантом. Именно на это ключевое место метил сам Гамильтон, и вот теперь он пробует оккупировать его хотя бы идейно. 30 апреля он отправляет Моррису внушительное послание, в котором суммирует все свои предложения. Оно подводит итог его исканиям военных лет.
"В современной обстановке, - пишет он, - здоровье государства, в особенности торгового, зависит от достаточного количества и регулярного обращения денежных средств, так же как состояние любого животного зависит от количества и обращения крови". Другая важнейшая проблема - необходимость восстановления государственного кредита. Этим, "а не победами в сражениях достигнем мы своей цели", - заявляет Гамильтон. Решить эти проблемы может только банк в сочетании с иностранными займами. Пусть и но странные и банковские кредиты раздуют государственный долг - он будет выплачен. Залогом тому - само развитие страны. "Наше население, - считает Гамильтон, - в ближайшие тридцать лет по крайней мере удвоится, нам гарантирован приток иммигрантов со всего света; соответственно будут расти торговля, богатство страны и ее доходы".
Более того, Гамильтон поворачивает проблему государственного долга с неожиданной, функциональной ее стороны. Он предвидит политические последствия государственного долга, который породит мощную центростремительную силу в виде материальной зависимости разбросанных по штатам кредиторов от центральной власти и прочно свяжет процветание денежных людей с судьбой их должника - государства. Словом, государственный долг явится благословением для страны, "прочнейшим цементом союза".
Благотворными, с точки зрения гамильтоновского технократического цинизма, будут и другие последствия государственного долга: "Он также вызовет необходимость поддержания налогов на уровне достаточно высоком, чтобы, не угнетая чрезмерно, они тем не менее служили шпорами к большему трудолюбию... Мы трудимся меньше, чем любая цивилизованная страна Европы, а привычка народа к труду столь же необходима для его физического здоровья, сколь и для благосостояния государства". В заключение Гамильтон возвращается к необходимости проведения политической реформы путем созыва "съезда всех штатов, полномочного окончательно и бесповоротно переделать существующую бесполезную и бессмысленную конфедерацию".
Письмо Гамильтона искренне порадовало Морриса. Это было блестящее подтверждение его собственных мыслей. Гамильтон при всех своих способностях вовсе не был одиноким провидцем. С конца 70-х годов по мере обострения финансово-экономического кризиса конфедерации в стране складывалась группировка так называемых "националистов" - тех слоев имущих классов, которые объективно были заинтересованы в укреплении централизованной государственной власти. Ее костяк составили представители крупной торговой и финансовой буржуазии северо-восточных и центральных штатов, которые более всего нуждались в протекционизме государства и устойчивой финансовой системе. Ударной силой "националистов" стала многочисленная, порожденная войной прослойка держателей государственных бумаг, скупавших их по дешевке в надежде на последующую выплату государственного долга. Алчность делала их агрессивными - уже в конце 1780 года хартфордский съезд кредиторов Новой Англии потребовал ни много ни мало, как наделения Вашингтона диктаторскими полномочиями и введения федерального налогообложения. Видную роль на этом съезде играл и будущий тесть Гамильтона.
Влияние "националистов" значительно возросло в 1781 году. Они укрепились в конгрессе и захватили ключевые посты в реорганизованных под их же нажимом управлениях: заместителем Роберта Морриса на посту суперинтенданта стал Гавернир Моррис, секретарем по иностранным делам - У. Ливингстон, а военным министром - генерал Б. Линкольн.
Планы этих-то людей и предугадал в своих проектах Гамильтон, но был при этом решительнее и дальновиднее большинства из них. Ближе всех к Гамильтону по размаху замыслов стоял Роберт Моррис. Опытнейший коммерсант, волевой администратор и убежденный консерватор в политике, он на время стал одним из главных деятелей государства. Закрепившееся за Моррисом прозвище "финансиста революции" в какой-то степени отражало масштабы его деятельности: он распоряжался всеми иностранными займами, контролировал государственную внешнюю торговлю, а также военно-морское управление; руководил снабжением армии и финансовой политикой. При этом он, как и другие призванные на службу коммерсанты, умудрялся сочетать государственные дела с ведением собственного бизнеса, разумеется, не в ущерб последнему. "Я буду продолжать исполнять свои общественные обязанности, - заверял он своего партнера С. Дина, американского торгового представителя в Европе, - и одновременно обеспечивать собственное состояние теми честными и достойными методами, какие позволяет наше время; думаю, что и вы поступите так же". Так они и поступали. Что же касается методов, то время, а главное - высокие государственные посты позволяли им удивительно многое. Еще в 1776-1777 годах, когда Моррис ведал снабжением армии из-за рубежа, а Дин был его представителем в Париже, они создали подпольный международный торговый синдикат с участием английских, французских и голландских купцов и вели бойкую торговлю, в первую очередь с заклятым врагом - Англией. Зафрахтованные конгрессом американские суда бесплатно везли в Америку дефицитные английские товары для собственной наживы, а армия задыхалась от нехватки вооружения и обмундирования. Когда же случалось, что суда приходили "впустую", то есть без контрабанды, с одним государственным грузом, Моррис просто выходил из себя. "...Вам придется раскаяться в том, что упустили такую прекрасную возможность составить себе состояние, - отчитывал он Дина. - Цены всех импортных товаров держатся на самом высоком уровне; я бы смог продать любое их количество с прибылью 500-700%". С помощью таких "честных" и "достойных" методов Моррис за годы войны стал одним из богатейших людей штатов: он финансировал революцию, а революция финансировала его.
Моррис и его группа, однако, не были просто барышниками. Не ограничиваясь набиванием карманов, они думали о завтрашнем дне - о создании крепкого буржуазного государства с прочной финансовой и политической системой под эгидой коммерческого капитала. Революция расчистила для них площадку, освободив от тяжелой руки метрополии; теперь надлежало возвести надежную государственную надстройку, перейти, как говорил сам Моррис, от "конвульсивных усилий энтузиазма к нормальному и здравому функционированию государства и законности". "Требуются только решительность, организация и быстрота, чтобы превратить страну в настоящую империю", - вторил ему Г. Моррис.
В стратегии "националистов" первостепенное значение отводилось финансовым вопросам. "Финансы, мой друг, финансы, - писал в конце войны Р. Моррис Джею, - в них заключается все, что осталось от революции". Что касается политики, то наиболее нетерпеливые вроде Н. Грина ратовали за установление диктатуры, большинство же во главе с суперинтендантом предпочитало пока действовать через конгресс. Их планы во многом совпадали с гамильтоновскими: наделить конгресс правом налогообложения, что даст государству постоянный источник дохода и обеспечит выплату процентов по государственному долгу; учредить банк для создания национальной денежной и кредитной системы.
Уже через несколько недель после получения апрельского (1781 г.) послания Гамильтона Моррис пробил в конгрессе своей проект банка Северной Америки - урезанный вариант гамильтоновского. Суперинтендант сократил управленческий аппарат, реорганизовал систему снабжения армии, поставив ее на конкурентную основу. Кроме того, была централизована система реквизиций, которые теперь осуществлялись сборщиками налогов - агентами Морриса. Все это увеличило ежегодные поступления в казну от штатов до 2 миллионов
золотом в 1782-1784 годах вместо 1,2 миллиона в 1781 году. Недостаток доверия к государственному кредиту Моррис пытался компенсировать весьма своеобразно: выпуская новый вид бумажных денег - "банкноты Морриса", выписанные лично на него.
Но главные усилия "националистов" были направлены на обеспечение постоянного источника доходов для государства. Начало этому должна была положить 5-процентная пошлина на все ввозимые в страну товары - так называемый импост, предложенный Моррисом в начале 1781 года и подлежавший одобрению штатов. "Политическое существование Америки зависит от выполнения этого плана", - предупреждал конгресс Моррис, не слишком, по-видимому, преувеличивая, поскольку введение этого налога как косвенного и наиболее приемлемого рассматривалось как прецедент для введения всей последующей системы налогообложения.
Этим вопросам был посвящен специальный доклад суперинтенданта конгрессу 29 июля 1782 г. В нем он изложил свой план закрепления государственного долга. Прежние обесценившиеся обязательства предлагалось обменять по их нарицательной стоимости на новые долговременные, по которым государство гарантировало бы выплату процентов звонкой монетой на сумму около 2 миллионов долларов ежегодно. Для этого надлежало ввести четыре вида налогов: импост, поземельный, избирательный и налог на спиртные напитки. "Государственный заем, - внушал Моррис конгрессу в заимствованных у Гамильтона выражениях, - придаст государству стабильность, усиливая заинтересованность денежных людей в его поддержке... Государственный долг, обеспеченный государственным доходом, будет цементом, скрепляющим нашу конфедерацию".
План Морриса был сорван: конгресс отказал во всех налогах, кроме импоста, да и тот нужно было еще выпрашивать у штатов. Таково было положение дел у "националистов", когда к ним непосредственно присоединился Гамильтон.
Впрочем, мы несколько забежали вперед. Наш герой недолго наслаждался тихим семейным счастьем. Так и не дождавшись назначения в действующую армию, в июне 1781 года он сбежал из родового поместья Скайлеров - сонного Олбани в Добс - Ферри, где находился лагерь Вашингтона. Главнокомандующий, наконец, смягчился и дал ему батальон. В августе возник план совместного американо-французского окружения частей Корнваллиса, неосмотрительно занявшего очень невыгодную позицию у Йорктауна. Это сражение могло оказаться решающим, и Гамильтон с трудом выпросил у Вашингтона опасное и почетное задание - взять английский редут, прикрывавший продвижение к главным силам Корнваллиса. В ночь с 14 на 15 октября в штыковой атаке - командир впереди - батальон Гамильтона овладел редутом. Это позволило продвинуть артиллерию вперед и после двух дней жестокого обстрела Корнваллис вынужден был капитулировать. Последний бой Гамильтона и последнее большое сражение континентальной армии! Исход войны был теперь предрешен.

Батальон Гамильтона штурмует английский редут у Йорктаун
* * *
Гамильтон, отщипнувший под занавес от лаврового венка воинской славы и несколько успокоившийся, покидает армию. Он решил прежде всего найти для себя и семьи источник независимого существования. Полковник вновь берется за учебники и штурмом завершает свое юридическое образование. Уже в июле 1782 года, после сдачи экзаменов, он допускается к юридической практике в Нью-Йорке. Но даже и в этот напряженный для него период Гамильтон не покидает полностью политической арены. С июля 1781 по июль 1782 года в газете "Нью-Йорк пакет" выходит шесть больших статей под многозначительной подписью - "Континенталист". Все они пронизаны одной главной мыслью, сформулированной еще в упомянутом письме Дюану: больше власти континентальному конгрессу! В них Гамильтон детально разрабатывает всю свою аргументацию о слабостях конфедерации и необходимости укрепления центральной власти. Рассуждения "Континента-листа" обнажают тактику господствующего класса на неизбежной для всякой буржуазной революции фазе перехода от "конвульсий народного энтузиазма" к "закону и порядку".
Проблема в том, как вернуть "разгоряченные" освободительной войной и разрушением власти метрополии массы в безопасное для буржуазии законопослушное состояние. Самое надежное средство - твердая руки новой власти и закона. "Крайняя подозрительность по отношению к власти свойственна всем народным революциям и редко не оборачивается злом .., - подходит Гамильтон к сути вопроса. - История полна примеров того, как в борьбе за свободу такая подозрительность народа либо срывала попытки добиться свободы, либо впоследствии подрывала ее, опутывая государство чрезмерными ограничениями и оставляя слишком широкий простор для бунта к народных волнений. Для обеспечения длительной свободы в государстве не меньше внимания, чем охране прав общества, должно быть уделено приданию государству надлежащей степени власти для твердого осуществления законов. Так же как излишек власти ведет к деспотизму, ее недостаток приводит к анархии..." В этой серии статей Гамильтон первым выступил с развернутым обоснованием активной роли государства в развитии отечественной торговли и мануфактурного производства и их защиты от иностранной конкуренции -тема, которая станет одним из лейтмотивов в его последующей деятельности.
Гамильтон, разумеется, не стал посвящать широкую публику в наиболее сокровенные свои планы, он изложил лишь программу-минимум: передача конгрессу права регулирования торговли и налогообложения. Но и при этом "Континенталист" стал пропагандистским знаменем "националистов", чьи идеалы он так вдохновенно обрисовал в своем заключительном пассаже: "Есть что-то благородное и величественное в великой федеральной республике штатов, тесно сплоченных общей целью, умиротворенной и процветающей изнутри, уважаемой за пределами. Столь же ничтожно и презренно зрелище кучки небольших штатов, объединенных лишь видимостью союза, ссорящихся, капризных и подозрительных, лишенных определенного направления, несчастных дома, слабых и ничтожных в глазах других народов".
Не успел Гамильтон начать юридическую практику, как Р. Моррис навязал ему весьма неблагодарную работу сборщика налогов в штате Нью-Йорк. Как ни усердствовал, как ни использовал Гамильтон все влияние семьи Скайлеров, легислатура штата не стала вводить предложенные им дополнительные налоги, а без них ему удалось собрать всего около 2% положенной квоты. Впрочем, в других штатах положение было не лучше. Единственное, что ему удалось достигнуть, - это провести через легислатуру резолюцию с предложением созыва специального съезда штатов для пересмотра статей конфедерации. Это был первый призыв такого рода, исходящий от штатов, первый небольшой шаг к принятию конституции 1787 года.
При всех неудачах и разочарованиях опыт этой работы не прошел для Гамильтона бесследно: он ближе познакомился с финансовым механизмом государства и окончательно убедился в бессмысленности попыток усовершенствования снизу. Поэтому он легко расстался с треклятой должностью, как только представилась первая возможность: в августе 1782 года нью-йоркская легислатура, не без стараний Ф. Скайлера, избрала его делегатом конгресса. Авторитет этого органа был уже так подорван, что это еще не давало особых видов на большую карьеру. Не случайно многие приятели Гамильтона бросили политику и занялись более многообещающими делами.
Один из них - Джеймс Макгенри писал ему тогда: "Сейчас нет ничего достойного вас. Делегация на мирные переговоры назначена, правительственные управления заполнены. Наши посланники за границей крепко засели в своих креслах... В конгрессе вы потеряете год драгоценного, как никогда, времени и с отвращением сбежите оттуда, чтобы возобновить свои занятия... Мы уже довольно пожертвовали на алтарь свободы; страна ныне не нуждается в наших услугах".
Подобные настроения посещали и самого Гамильтона, что видно из его письма Лафайету, написанного вскоре после избрания в конгресс. "Я собираюсь убить еще несколько месяцев на общественную жизнь, - пишет он, - после чего ухожу в отставку скромным гражданином и почтенным отцом семейства... Вы пожизненно обречены на погоню за славой. Я же сыт карьерой по горло и хочу просто жить". Но и сам Гамильтон был обречен на эту погоню не меньше, чем маркиз Лафайет. Нет, этот мир еще не устоялся, настоящее государство еще не создано, а уж он-то знает, каким ему быть. Впереди ждут великие свершения. "Грядет мир, мой друг, а с ним - новые дела, - пишет он Лоуренсу. - Цель в том, чтобы превратить нашу независимость в благословение. (Интересно, что эту же фразу через несколько месяцев дословно повторит Вашингтон в своем наказе штатам по случаю ухода в отставку. - В. П.) Для этого мы должны поставить наш союз на прочную основу - геркулесов труд, придется сравнять горы предубеждений! Он требует всех добродетелей и способностей страны. Оставь меч, дружище, надень тогу, явись в конгресс!" Он еще не знал, что Лоуренс убит в случайной перестрелке на юге. Никто и никогда уже не займет в сердце Гамильтона место, принадлежавшее другу военных лет.
* * *
В ноябре 1782 года Гамильтон прибыл в Филадельфию. Он застал конгресс в плачевном состоянии. Кворум собирался далеко не каждый день; когда же это случалось и после долгих препирательств принималось какое-нибудь решение, оно чаще всего повисало в вакууме безразличия штатов. Лидеры "националистов" в конгрессе - Г. Моррис, Дж. Вильсон, Дж. Мэдисон - вели ожесточенные арьергардные бои. Судьба всей их программы теперь целиком зависела от успеха импоста, который с большим скрипом продирался через легислатуры штатов. К осени 1782 года победа казалась близкой - оставалось получить санкцию всего двух штатов: самого маленького - Род - Айленда и самого большого - Вирджинии. Но вдруг "моська" подняла голос - 30 ноября легислатура Род - Айленда ответила отказом. Этот торговый штат наживался на перепродаже товаров в соседний Коннектикут, не имевший собственного порта, и прижимистые родайлендцы не собирались поступаться даже малой толикой своих прибылей. Для Гамильтона - новичка в конгрессе это был подходящий повод показать себя. Он незамедлительно возглавил кампанию по обузданию строптивого штата: предложил послать туда делегацию конгресса и составил ответ родайлендцам, в котором не оставил камня на камне от их оправданий. Но не успела делегация добраться до места, как в пути ее настигла весть - могущественная Вирджиния последовала примеру Род - Айленда, "импост-1782" приказал долго жить.

Вирджинский университет
У "националистов" оставался еще один, последний источник надежды - голодная неоплаченная армия, состояние которой к исходу 1782 года достигло критической точки. Взбудораженные приближением конца войны офицеры требовали от конгресса обещанного им еще в 1780 году назначения пожизненной пенсии в размере половинного жалования; роптали и нижние чины, годами не получавшие денег, но конгресс оставался безучастным. "Терпение и долгие страдания армии достигли предела, - писал в октябре военному министру Б. Линкольну Вашингтон, специально оставшийся с частями на тревожную зимовку в Ньюбурге. - Дух недовольства еще никогда не был так силен, как сейчас".
29 декабря в Филадельфию прибыла делегация офицеров во главе с генералом Макдугаллом. Она представила конгрессу петицию с требованиями денежного расчета, в которой сквозь общий сдержанный тон пробивалась глухая угроза - "любые дальнейшие эксперименты по испытанию нашего терпения могут иметь фатальные последствия". "Националистов" осенила дерзкая мысль: превратить алчность крупных кредиторов и недовольство армии в таран для сокрушения сопротивления конгресса. "Армия держит в своих руках меч, - писал Г. Моррис Джею 1 января 1783 г., - и вы достаточно знакомы с историей человечества, чтобы знать больше, чем я сказал, и, возможно, больше, чем думает она сама". Гамильтон, сообщая в те же дни Клинтону о прибытии делегации Макдугалла и требованиях армии, обронил: "...Если взяться за дело должным образом, то эти требования можно повернуть на пользу дела".
Далее стали плестись нити сложной интриги, вошедшей в историю под названием "ньюбургского заговора". Г. Моррис и Гамильтон стали душой всего предприятия, проявляя редкое коварство и дерзость. Их ближайшая задача заключалась в том, чтобы, хорошенько напугав конгресс бунтом армии, добиться утверждения уже намеченной программы. О дальнейших планах "националистов" нет прямых свидетельств; видимо, на том этапе эти планы и не были сформулированы. Но вряд ли заговорщики, заполучив в свои руки "меч армии", ограничились бы простым запугиванием конгресса, глубоко презираемого ими как ничтожный беспомощный орган. Да и ситуация в случае столь резкого поворота событий могла выйти из-под контроля и вынудить пойти по пути узурпации власти гораздо дальше, чем они намеревались. Впрочем, на грани краха они и так были готовы почти на все. Г. Моррис по крайней мере "утратил всякую надежду на то, что наш союз, - писал он в декабре 1782 года генералу Н. Грину, - может существовать в какой-либо иной форме, кроме абсолютной монархии, а она, судя по всему, решительно расходится со вкусами и настроениями народа. Неизбежным следствием этого может быть, если я не ошибаюсь, только одно - раскол, а потом и война". Началась обработка армейских делегатов. В переговорах Р. и Г. Моррисы склоняли их к мысли о необходимости объединения требований армии и частных кредиторов с целью установления прямого налогообложения как единственной гарантии удовлетворения требований офицеров. Делегаты вступили в письменные консультации по этим вопросам с генералом Г. Ноксом, сочувствующим "националистам".
24 января на сцену вышел сам "финансист революции". В закрытом обращении к конгрессу он пригрозил отставкой в случае непринятия системы налогообложения, установив срок до 1 мая. Через три дня Дж. Вильсон, поддержанный Гамильтоном, вновь передал программу "националистов" на рассмотрение конгресса. Опять начались словопрения, а тем временем 4 февраля конгресс наотрез отказал офицерам в пожизненной пенсии. Страсти накалялись; пора было подключать армию. Приятель Гамильтона Брукс срочно отправляется в Ньюбург с двумя посланиями Ноксу. В первом делегаты сообщали о роковом решении конгресса, во втором Г. Моррис просил Нокса выступить в поддержку гражданских кредиторов: "Пользуясь вашей терминологией, вы захватите форт, а кредиторы оккупируют его для вас". В обоих посланиях предлагалось потребовать от конгресса учреждения постоянных федеральных налогов.
Но Моррисы и К° прекрасно понимали, что даже при поддержке Нокса решающее слово в армии останется за Вашингтоном. Знали они и то, что щепетильный в отношениях с гражданской властью главнокомандующий не пойдет на сознательное участие в столь сомнительном предприятии. Следовательно, нужно заполучить его хитростью, искусно и предельно осторожно. И вот через несколько дней, когда вести Брукса, по расчетам конспираторов, должны были возбудить армию, Вашингтон получает многозначительное письмо Гамильтона от 13 февраля.
Запугивая Вашингтона "небывало критическим состоянием финансов" и сетуя на "слабоумие" и "нерешительность" конгресса, он напоминал о "главной задаче дня - учреждении федеральных фондов", в решении которой "может помочь правильно направляемое влияние армии". Как бывший адъютант главнокомандующего Гамильтон отлично знал, что в аналогичных ситуациях Вашингтон всегда усмирял армию, сам спорил с конгрессом и выжидал. Поэтому он стремился подать роль, предназначенную Вашингтону, в привычной тому упаковке. "Трудность будет состоять в том, - писал он, - чтобы удержать страдающую и стонущую армию в рамках умеренности. Здесь должно помочь влияние вашей светлости. Для этого было бы желательно не подавлять ее стремление добиться удовлетворения, а скорее через вмешательство доверенных и предусмотрительных людей направить это стремление". В постскриптуме, словно невзначай, Гамильтон рекомендовал Нокса как одного из "доверенных и предусмотрительных людей", видимо, на тот случай, если Вашингтон не захочет действовать сам.
Но заговорщики неверно оценили главнокомандующего. Он согласился с Гамильтоном в общей оценке ситуации, но при всей солидарности с целями "националистов" предлагаемое средство казалось ему страшнее самой болезни. Лучше политиков зная, что армия - это опасный инструмент, он разглядел во внешне безобидном намеке Гамильтона "фатальные последствия": открытое противоборство армии с конгрессом "приведет к гражданским волнениям и закончится кровопролитием. Что за ужасающая перспектива! Спаси нас бог от нее!" То, что в обозначившемся тупике гражданской войны ему маячила корона монарха или власть диктатора, не меняло дела. Принцип верховенства гражданской власти и невмешательства армии в ее дела всегда оставался для Вашингтона незыблемым: "Я буду следовать той линии поведения, которой придерживался всю жизнь.., - писал он, - было бы неполитично вмешивать армию в эти дела, это может возбудить подозрения и иметь обратный эффект". Конгресс, считал Вашингтон, и так будет вынужден пойти на уступки.
Конспираторы, однако, не теряли надежды и продолжали агитацию в армии. Расчет делался на то, что волнения в ней не оставят Вашингтону иного выхода, кроме как солидаризироваться с требованиями армии. Одновременно шло запугивание конгресса - темные угрожающие слухи ползли отовсюду. 20 февраля Мэдисон заносит в дневник разговор группы конгрессменов с участием Гамильтона и его единомышленника Р. Питерса. "Гамильтон и Питере информировали собравшихся о том, что армия наверняка тайно решила не складывать оружия до тех пор, пока не выяснится ситуация с ее оплатой". Ярый противник группировки Р. Морриса Артур Ли сообщал из Филадельфии Самуэлю Адамсу: "Запущены все двигатели для того, чтобы добиться постоянных налогов. Ужас перед взбунтовавшейся армией обыгрывается весьма эффективно".
"Националисты" очень спешили. Время работало против них, ибо со дня на день ожидалось сообщение из Парижа о подписании мирного договора с Англией и тогда - прощай, призрак внешней угрозы, столь необходимый для осуществления их планов. Роберт Моррис откровенно делился со своими коллегами: "Как патриот я желал бы продолжения войны до тех пор, пока центральное правительство не получит больше власти". Его однофамилец и заместитель называл войну не иначе, как "большим другом суверенной власти".
Поэтому Р. Моррис пошел на крайний шаг. 28 февраля он обнародовал свой ультиматум конгрессу в зетах, 8 марта дополнив его предложением установить крайний срок выплаты штатами своих квот государственного долга, а в случае неисполнения (как он прекрасно знал, абсолютно неизбежного) - перевести всю сумму долга на счета конгресса и ввести федеральные налоги. Противники легко разгадали ход Морриса и не собирались попадаться на крючок. "Здесь, конечно, кроется маневр с целью навязать штатам систему консолидации долга, в которой м-р Моррис и его друзья так глубоко заинтересованы", - писал Ли Самуэлю Адамсу.
Поскольку генерал Нокс по здравом размышлении отказался от предложенной ему роли, то заговорщики решили выставить в качестве сеятеля смуты генерала Гейтса. Он давно ненавидел Вашингтона и, не ведая о двойной игре хитроумных политиков, усмотрел в планах заговорщиков возможность сместить его. Эмиссар "националистов", бывший адъютант Гейтса полковник Стюарт прибыл в Ньюбург 8 марта, а 10-го по лагерю были распространены анонимные листовки, в сильных и доходчивых выражениях рисовавшие плачевное будущее ветеранов и призывавшие армию бойкотировать конгресс до полной его капитуляции. Их автором, как выяснилось позднее, был майор Джон Армстронг, 24-летний адъютант Гейтса. Через день последовало обращение к офицерам, в котором предлагалось созвать общий сбор для обсуждения плана действий. Возбуждение офицерства дошло до крайности.
Вашингтон был предельно встревожен: армия грозила выйти из-под контроля. 12 марта, описав в письме Гамильтону развитие событий, он требует, чтобы конгресс сделал "хотя бы что-нибудь", иначе возможны "разрушительные последствия". Вашингтон уже начал угадывать общие контуры заговора. "Во всем этом есть что-то очень таинственное.., - продолжал генерал. - Многие убеждены, что весь план зародился и оформился в Филадельфии... Все было устроено с большим искусством: когда умы офицеров были, как считалось, подготовлены к действиям, появились анонимные подстрекательства..." Подтверждались худшие опасения главнокомандующего: филадельфийские интриганы явно собирались использовать его любимое детище - армию "в качестве простой марионетки для учреждения континентальных фондов". Поэтому, оценив обстановку, он стал действовать решительно, но вовсе не в том направлении, на какое рассчитывали Моррисы и Гамильтон.
Неожиданно явившись на сбор офицеров, где председательствовал Гейтс, он чудом сумел усмирить их, и дело закончилось принятием мирной петиции конгрессу с выражением лояльности армии. Пузырь заговора лопнул; окончательно сразила "националистов" весть о мире, достигшая Филадельфии в середине марта.
13 июня Вашингтон по настоянию конгресса распустил армию, при этом офицеры получили пятилетнее, а солдаты - трехмесячное жалование.
Конгресс остался глух к прощальной просьбе главнокомандующего, поддержанной Гамильтоном и другими "националистами": сохранить хотя бы ядро армии в 2,6 тысячи человек и ввести военную подготовку для гражданских лиц, заявив, что "регулярная армия в мирное время несовместима с принципами республиканского правления". Было оставлено лишь около сотни солдат для охраны военных складов в Вест - Пойнте и Спрингфилде.
Теснимые в конгрессе "националисты" откатывались на исходные позиции. В апреле были приняты крохи их обширной программы: введен импост и утверждены его сборщики по штатам. В отличие от большинства единомышленников, Гамильтон голосовал против импоста. "Дух компромисса еще более усугубит положение", - поясняет он Клинтону. На него нахлынуло прежнее отвращение к конгрессу и политике вообще; он просит срочно прислать замену: "Не имея никаких видов на общественную деятельность в будущем, я обязан перед самим собой всецело и безотлагательно заняться своими личными делами". Другие "континенталисты" тоже спешили покинуть тонущий корабль. Ушли в отставку Р. Ливингстон и Б. Линкольн, фактически отстранился от дел Роберт Моррис, отказался продлить свое пребывание в конгрессе Дж. Мэдисон.
Но их ожидало еще одно, последнее унижение: 80 взбунтовавшихся нижних чинов, проникших из Ланкастера в филадельфийские казармы, увлекли за собой еще несколько сот солдат и 20 июня осадили здание Стейт - Хауз, в котором заседал конгресс. Три часа озлобленные солдаты продержали "избранников народа" в душном зале. Можно представить, с каким чувством смотрел Гамильтон на просунутые в окна штыки и грызущихся между собой конгрессменов - это был гротескный шарж на его собственные планы использования армии.
Вдоволь насладившись зрелищем перепуганных законодателей, солдаты отпустили их на все четыре стороны под улюлюканье горожан. Дабы избежать "новых оскорблений достоинства и авторитета Соединенных Штатов", конгресс постановил перебраться в Принстон. В бумагах Гамильтона сохранился проект резолюции о созыве конституционного съезда с пометкой: "Планировалась к выдвижению в конгрессе (Принстон, 1783 г.), но отложена ввиду отсутствия поддержки". Да, игра была проиграна, и с этим нужно было мириться. Негодование сменяется фатализмом. "Каждый день доказывает никчемность нынешней конфедерации, - пишет Гамильтон Джею в июле, - и все же мы с исчезновением общей угрозы не усиливаем, а утрачиваем решимость устранить ее дефекты... Остается надеяться, что, когда глупость и предрассудки исчерпают себя, мы вспомним о здравом смысле и исправим наши ошибки. После службы в армии в годы войны я прошел недолгое ученичество в конгрессе, но теперь, когда приближается освобождение Нью-Йорка, собираюсь оставить общественную жизнь и заняться юридической практикой". Гамильтон сменил тогу на судейскую мантию.
* * *
Нью - Йорк в то время был раем для юристов. Прежняя судейская каста, состоявшая в основном из тори, сильно поредела, а за время войны накопилось множество дел. На этом послевоенном буме уже делали карьеру А. Бэрр, Р. Трауп, Дж. Джей, Р. Кинг. Гамильтон пустился вдогонку.
В годы войны Нью-Йорк - главная база англичан - стал пристанищем лоялистов всех штатов. Они благоденствовали под английским флагом, а изгнанные из города патриоты вынашивали планы мести предателям. Губернатор Клинтон поклялся, что "скорее будет вечно жариться в аду, чем пощадит проклятых тори". Уже в 1779 году легислатура штата приняла закон о конфискации имущества лоялистов. За этим законом в 1782-1783 годах последовали другие: об отмене долговых обязательств по отношению к лицам, находящимся "в стане врага", и о "нарушении границ", в соответствии с которым лицо, чья собственность в зоне английской оккупации была захвачена или использована другими, имело право привлечения их к суду.
Эвакуация англичан в ноябре 1783 года развязала руки патриотам, и оставшиеся в городе лоялисты скоро испытали недавнюю участь своих противников. Большая их часть бежала, опасаясь преследований; только в 1783 году через Нью - Йорк выехало 29 тысяч человек - люди, как правило, состоятельные. "Мы уже потеряли слишком много ценных граждан", - с тревогой писал Гамильтон Дюану. Происходящее было противно ему вдвойне: преследовались не просто вчерашние друзья по Королевскому колледжу, а "ценные" в прямом смысле слова люди, богатства и убеждения которых, по мнению Гамильтона, составляли опору общества. Действия патриотов казались ему совершенно бессмысленными и вредными с экономической точки зрения, ведь каждый из эмигрирующих торговцев "может увезти с собой восемь-десять тысяч гиней". "Каш штат, - негодовал Гамильтон, - еще лет двадцать по крайней мере будет ощущать последствия этого народного сумасшествия".
На борьбу с этим "народным сумасшествием" и бросился Гамильтон, как писал его биограф Г. К. Лодж, со всем свойственным ему "пренебрежением к настроениям народа". Он не только энергично отстаивает имущественные интересы тори в суде, но и поднимает в печати кампанию против принятия новых репрессивных законов, в частности против закона о лишении лоялистов избирательных прав. В январе 1784 года в газетах появилась серия "Писем" под псевдонимом "Фосион" - по имени афинского деятеля, который за свое милосердие к побежденным был приговорен мстительными согражданами к смерти. "Фосион"-Гамильтон проявляет немалую изобретательность, доказывая необходимость всячески ублажать лоялистов: "Самая надежная опора любого правления - личные интересы людей. Все политические посылки, чтобы оставаться справедливыми, должны исходить из этого принципа человеческой натуры. Сделайте так, чтобы гражданам, которые в революцию были нашими врагами, стало выгодно быть друзьями нового государства. Предоставьте им не только защиту, но и возможность участия в его жизни и привилегиях, и они, несомненно, станут таковыми".
В главном Гамильтон всегда был на редкость последователен: государство держится на корыстной заинтересованности состоятельных людей в его существовании, а значит они неприкосновенны.
Но широкой нью-йоркской публике внезапное превращение храброго "солдата революции", патриота с безупречной репутацией в ярого защитника тори казалось необъяснимым. "Нью-Йорк джорнэл" напечатал "Письмо Лисандру" (полковнику Гамильтону), в котором вопрошалось:
Неужто ты, Лисандр, стоявший так высоко, Забудешь честь свою и прежние заслуги, Опустишься до козней и уверток правосудия В делах, роняющих твое былое имя?*
*(Здесь и далее стихи в переводе автора.)
Венцом добровольной миссии по защите лоялистов стало прогремевшее на всю страну дело "Рутгерс vs Вадингтон". В феврале 1784 года вдова Элизабет Рутгерс подала в муниципальный суд Нью - Йорка на Дж. Вадингтона - совладельца английской фирмы "Вадингтон и Пьерпонт". Суть дела сводилась к следующему: в 1776 году она как истинная патриотка покинула город и свою пивоварню, которую заняла и стала эксплуатировать фирма Вадингтона с одобрения английского военного командования. К концу войны пивоварня сгорела, а вернувшаяся хозяйка потребовала в качестве компенсации 8 тысяч долларов - в назначенную ею сумму входила стоимость самого предприятия, а также произведенной на нем за эти годы продукции.
Это было первое крупное дело, проходящее по закону о нарушении границ, которое должно было установить прецедент для решения сотен других, ему подобных. Весь Нью - Йорк с волнением ожидал процесса: бедная вдова против мерзких толстосумов - узурпаторов, да еще англичан. Стоит ли говорить, что симпатии большинства принадлежали миссис Рутгерс; представляли ее лучшие адвокаты - Р. Трауп, У. Вилкокс. Страсти накалились еще больше, когда стало известно, что в роли "адвоката дьявола" выступит Гамильтон.
В это, казалось бы, безнадежное дело он вложил всю силу своего интеллекта и талант юриста. Как бы намереваясь превратить процесс в референдум по вопросу о преследовании тори и законности вообще, он подкреплял свои выступления в суде публикациями в прессе - новыми "Письмами Фосиона". Гамильтон построил свою защиту на двух основных доводах. Во-первых, по нормам международного права захват собственности для нужд армии в военное время не считался противозаконным. Во-вторых, мирный договор между США и Англией в статье 6 предусматривал взаимный отказ от имущественных претензий, возникших во время или в результате войны. Поскольку адвокаты Рутгерс ссылались на суверенитет штата в вопросах внутреннего законодательства, все дело уперлось в соотношение законов штата и конфедерации в целом.
Для Гамильтона это был лишь юридический аспект давно решенного им вопроса о верховенстве центральной власти. Условия мирного договора, убеждал он, являются обязательными для штатов потому, что, делегировав, согласно "статьям конфедерации", конгрессу права на заключение международных договоров, они тем самым автоматически делегировали ему и полномочия по обеспечению их соблюдения.
Соблюдение договора - вопрос национальной чести, писал Гамильтон во втором "Письме Фосиона"; его нарушение даст Англии повод к ответным действиям, которые будут иметь пагубные последствия для торговли и безопасности страны: "важнейшие интересы будут принесены в жертву низким эгоистическим чувствам мести немногих". Ему нельзя было отказать в логике, но нетрудно заметить, что в данном случае обостренный легализм и щепетильность в вопросе национальной чести были направлены на восстановление незыблемого "закона и порядка" - в противовес справедливому возмущению патриотов. Ссылки на чрезвычайные времена неоправданны, утверждал Гамильтон, так как "сейчас мы не в стремнине революции, но, напротив, благополучно привели ее к счастливому завершению; у нас есть конституция, и мы обязаны следовать ей".
Из посылки о верховенстве федерального закона над законом штата вытекало как следствие признание за судом права отмены законов штата в случае их противоречия конституции - в данном случае закона о нарушении границ.
Умелая защита сделала свое дело. Мэру Дюану пришлось проявить уйму изобретательности, чтобы придать решению суда характер компромисса. Миссис Рутгерс получила компенсацию только за начальный период использования злополучной пивоварни, дальнейшая же ее эксплуатация была признана законной в соответствии с нормами международного права. Но скрытый юридический смысл решения был тем не менее ясен: закон штата не всесилен и суд имеет право изменить его. В историю юридической практики США дело "Рутгерс vs Вадингтон" вошло как один из первых и важных прецедентов судебного конституционного контроля. Еще более важным был исход дела в политическом смысле: "увлекшихся" патриотов поставили на место, заставив их, по выражению историка Дж. Миллера, "задуматься над вопросом о том, кто же победил в этой революции". Во всяком случае тори не проиграли.
В результате этого процесса преследование лоялистов осложнялось, а через несколько лет репрессивные законы были отменены полностью.
Гамильтон, осыпаемый проклятиями простолюдинов (городское общество ремесленников публично окрестило этого "маленького напыщенного юнца" лисой, "а не Фосионом"), принимал поздравления от Вашингтона, Джея и др., новые заказы благодарных тори. С тех пор и начала складываться публичная репутация Гамильтона - защитника богачей, врага простонародья.
Занятый обширной судебной практикой, Гамильтон окунулся и в давно привлекавшее его банковское дело. Еще в конце 1783 года богатейшие торговцы страны - И. Уотсворт и шурин Гамильтона - Джон Чёрч попросили его содействия в организации банка в Нью-Йорке. Он с энтузиазмом принялся за дело, составил устав и стал одним из организаторов банка Нью-Йорка, который открылся в июне 1784 года. Не обладая собственным капиталом, он лишь представлял в нем интересы Уотсворта и Чёрча. Ярый патриот генерал Макдугалл стал директором, а столь же рьяный экс-лоялист У. Сэттон - главным кассиром. Деньги выше убеждений! Созданный богачами для нужд богачей банк Нью-Йорка процветал долгое время, наживаясь на краткосрочных кредитах торговцам и промышленникам.
Поглощенный судебными и банковскими делами, Гамильтон устранился от активной политической жизни. Вся его общественная деятельность теперь исчерпывалась председательствованием в нью-йоркском отделении Общества Цинцинната, в которое входили бывшие офицеры континентальной армии, стремившиеся поддержать корпоративный дух военной аристократии.
Только раз - весной 1785 года, перед очередными выборами в легислатуру штата, которые давали надежду на ослабление влияния сторонников губернатора Клинтона, Гамильтон оторвался от дел и вспомнил о политике. В письме Роберту Ливингстону, обращаясь ко всем, "кто озабочен безопасностью собственности или процветанием государства", он призывает "провести в легислатуру людей, чьи принципы не имеют уравнительного свойства".
И хотя эти выборы остались за консерваторами ("Объединив интересы Ранселяров, Скайлеров и нашей семьи.., - сообщал Ливингстон, - мы протащили всех наших до единого"), вопрос о том, кому править в стране, да и в самом Нью-Йорке был далек от окончательного разрешения.
Окончание освободительной войны вовсе не означало завершения революции, как бы того ни хотелось ее официальным лидерам. Освободительное движение вызвало резкий подъем демократических настроений в массах. Народ, вынесший всю тяжесть борьбы, не собирался мириться со своим прежним бесправным положением. Один из пленных английских офицеров описывает в своих мемуарах следующую картину, характерную для тех времен. В особняк вирджинского плантатора полковника Рэндольфа, у которого квартировал англичанин, вваливаются трое простых фермеров. Они спокойно подсаживаются к отдыхающим у камина джентльменам, "сморкаются, обстукивают свои деревянные башмаки и только потом приступают к разговору о деле". Когда "нахалы" ушли, хозяин извиняющимся тоном откомментировал: "Дух независимости неизбежно обратился в дух равенства, и каждый, кто носил оружие, считает себя ничуть не хуже любого другого... Без сомнения, любой из этих людей чувствует себя равным мне во всех отношениях".
Таковы были неизбежные для буржуазии издержки той единственной, как писал К. Маркс, узурпации, которую буржуазия позволяет трудящимся, - "узурпации борьбы". Лозунги прав человека, народного суверенитета, права на революцию и т. п., поднятые на щит для борьбы с Англией, теперь бумерангом ударяли по самим власть имущим. "Народ, - сетовал один из консервативных политиков Массачусетса Фишер Эймс, - повернул против своих учителей доктрины, внедренные для осуществления революции". Принципы, сформулированные в Декларации независимости, и в первую очередь принцип народного суверенитета, стали для простого люда не философской абстракцией, а практическим руководством к действию. Памфлеты Томаса Пейна, который переложил отвлеченные философские понятия на простой и яркий язык, лучше всего отражали эти радикально-демократические настроения! В их основе лежала простая и великая истина: только народ способен и должен решать судьбы государства. Конституционное творчество первых военных лет испытало на себе сильное влияние этого эгалитарно-демократического духа. Лучший тому пример - конституция Пенсильвании 1776 года, в составлении которой участвовали Б. Франклин и Т. Пейн.
Ее преамбула почти дословно повторяла слова Декларации независимости о праве народа на смену правления. Билль о правах предоставлял гарантии соблюдения неотъемлемых человеческих прав: голосования, права на справедливый суд, свободу вероисповедания, прессы и слова, права собрания, петиций и т. п. Однопалатная легислатура избиралась всеми налогоплательщиками старше 21 года. Вместо поста губернатора учреждался коллективный орган исполнительной власти, обновляемый ежегодно на треть и избираемый на тех же основаниях.
Пенсильванская конституция была лишь крайним выражением общей тенденции. Конституции большинства штатов содержали билль о правах; везде, кроме Делавэра, Нью - Джерси и Южной Каролины, губернатор подлежал ежегодному избранию, а его право вето резко ограничивалось; во всех штатах, кроме Южной Каролины, нижние палаты ежегодно переизбирались. Вместе с Пенсильванией Джорджия, Северная Каролина и Нью - Гемпшир ликвидировали имущественные избирательные цензы.
В результате состав легислатур штатов за годы войны значительно демократизировался, новые конституции открыли их двери для среднего и даже мелкого фермерства. В легислатурах Нью-Йорка и Нью - Гемпшира, например, доля богатейших землевладельцев (с состоянием свыше 5 тысяч фунтов стерлингов) упала с 43 до 15%, а удельный вес среднего фермерства вырос с 15% до 50%.
Не удивительно, что легислатуры многих штатов проводили политику, отвечающую интересам фермерства. Они выпускали бумажные деньги, облегчавшие участь должников-фермеров, и принуждали кредиторов принимать эти обесцененные бумаги в уплату за долги; облагали повышенными налогами торговцев и предпринимателей, регулировали цены, преследовали лоялистов, демонстрируя, на взгляд имущих классов, нехватку "мудрости и устойчивости", которая, по словам Мэдисона, стала "предметом возмущения во всех наших республиках".
Состоятельному меньшинству зачастую было не к кому апеллировать: полномочия губернаторов были резко ослаблены, а суды, подчиненные легислатурам, фактически бездействовали. В1779 году Джон Адамс занес в дневник описание встречи со знакомым фермером, который радостно сообщил ему, что местный суд распущен. "Половину, если не больше, населения страны составляют должники, - размышлял над последствиями Адамс, - и если власть в стране попадет им в руки, а такая опасность очень реальна, то во имя чего мы принесли в жертву наше время, здоровье и все прочее? Мы непременно должны защищать себя от такого духа и принципов, иначе нам придется пожалеть о содеянном".
Устами Адамса говорила осторожная американская буржуазия, стремившаяся обеспечить независимость страны с минимальными внутренними потрясениями и изменениями. Даже многие убежденные республиканцы были озабочены результатами "демократического эксперимента". Исповедуя культ народа как единого органического целого, кроткого и добродетельного, в годы революции они увидели реальность - народ, вышедший на историческую авансцену, увидели и отшатнулись. Б. Франклин - и тот был встревожен опасностью слева: "До сих пор мы боролись со злом, более присущим старым государствам, - чрезмерной властью правителей, но сейчас опасность заключается в отсутствии повиновения у подданных".
Перед лицом действующей демократии таяли остатки демократических иллюзий буржуазии. Не успели просохнуть чернила на Декларации независимости, как началась ревизия ортодоксального республиканизма в сторону усиления исполнительной и судебной власти, укрепления механизма "сдержек и противовесов", ограничения избирательных прав и т. п., которая позже завершилась принятием конституции США.
Эта ревизия выдавалась за "развитие" революционных принципов - права народа оставались по-прежнему "священными", но теперь их нужно было охранять от "деспотизма легислатур" и "анархии демократии", то есть от самого народа, который оказался недостаточно благонамеренным. Возникавшие при этом определенные логические затруднения преодолевались в духе поучений известного в Новой Англии священника Белнапа: "Установим в качестве принципа, что правительство исходит от народа; но будем учить его, что он неспособен управлять собой".
Помимо чисто политических существовали и другие факторы активизации движения за централизацию государственной власти. Торговля после окончания войны начала развиваться довольно быстро, но ее дальнейший рост наткнулся на ряд препятствий. Англия, по-прежнему главный торговый партнер США, запретила им прямую торговлю с Вест - Индией и наращивала свой экспорт, умело используя чересполосицу штатных тарифов. Дефицит торгового баланса с Англией в 1784-1785 годах составил 3,5 миллиона долларов. Переговоры о торговом договоре с Испанией зашли в тупик, когда та выставила условием получение прав судоходства по Миссисипи. Это вызвало секционный раскол: южные штаты высказались против, а торговые восточные - за.
Существование многочисленных штатных тарифов и отсутствие у конгресса полномочий по регулированию торговли исключали возможность проведения единой государственной внешнеторговой политики для организованного противодействия протекционизму других стран. Многочисленные петиции торговцев и другие попытки наделить конгресс такими полномочиями не имели эффекта.
Промышленное производство Америки, освобожденное от английских ограничений и подстегнутое нуждами войны, также быстро развивалось. Главной проблемой первых американских промышленников была конкуренция английских товаров на внутреннем рынке, которая, учитывая низкое качество и высокую себестоимость местной продукции, могла быть ослаблена только протекционистскими мерами. В этом их поддерживали рабочие и ремесленники, чье существование всецело зависело от развития отечественного фабричного производства. В 1785 году собрания промышленников и ремесленников ведущих промышленных центров - Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона потребовали введения единого протекционистского тарифа на английский импорт и принятия ограничительного закона о судоходстве, который покровительствовал бы американским судам. Но попытки конгресса провести эти меры провалились, встретив сопротивление Род - Айленда и Северной Каролины.
У конфедерации не было ни средств для обеспечения соблюдения заключенных договоров, ни полномочий для создания постоянной армии.
В пользу централизации власти говорила и внешнеполитическая слабость конфедерации, правительство которой пользовалось весьма скромным авторитетом даже у союзников США, не говоря уже об Англии. Эта же слабость препятствовала осуществлению дальнейшей территориальной экспансии США, проведению устойчивой целенаправленной внешней политики.
Но в самом незавидном положении находились государственные финансы. В 1784-1785 годах реквизиции по штатам в твердой валюте дали лишь 0,5 миллиона долларов, в 1786 - менее 200 тысяч долларов. Спасением оказался голландский заем 1784 года в 1 миллион долларов, но и этих средств не хватало на содержание государственного аппарата и выплату процентов по иностранному долгу. В 1786 году конгресс был вынужден приостановить выплату процентов по французскому займу, хотя в следующем году надлежало перейти к выплате его основной суммы. В 1786 году у конгресса не нашлось даже 1 тысячи долларов для укрепления важнейших форпостов в Огайо. Дело усугублялось расстройством денежной системы. Утечка золота за границу как следствие дефицита торгового баланса и требования должников заставили некоторые штаты вновь прибегнуть к выпуску бумажных денег в качестве законного платежного средства - к 1786 году таких штатов было уже семь.
При всем этом общее состояние экономики не вызывало серьезных опасений. Рост сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие междуштатной торговли, быстрый прирост населения, обилие ресурсов - все это закладывало основу для успешного экономического развития в будущем. Так были ли годы конфедерации "критическим периодом" для страны, как их стали именовать с легкой руки историка конца XIX века Джона Фиске? Безусловно - если взглянуть на них глазами "националистов". "Наши дела, видимо, идут к какому-то кризису, революции, чему-то, чего я не могу предвидеть или угадать, - писал в июне 1786 года Вашингтону Джей. - Я встревожен сейчас даже больше, чем во время войны".
О каком кризисе упоминал Джей? Никакого качественного ухудшения ситуации в это время не наблюдалось. И тем не менее, сточки зрения "националистов", кризис, действительно, надвигался. Именно к лету 1786 года под ударом оказались остатки их планов - государственный долг и импост, до последнего времени питавшие их надежду на перестройку конфедерации.
Государственный долг был закреплен за конгрессом, но он не имел возможности выплачивать его. После краха попыток Морриса консолидировать долг кредиторы обратились к властям штатов. Те стали принимать федеральные долговые обязательства в уплату за налоги и землю, то есть фактически выкупать их. Другой способ заключался в обмене этих обязательств на аналогичные бумаги штатов; тем самым государственный долг, дробясь, превращался в долги штатов. Так в 1784-1786 годах поступили легислатуры Пенсильвании, Мэриленда и Нью-Йорка. Их примеру собирались последовать и другие штаты. Государственный долг - "цемент союза" - таял, как снег весной. К лету 1786 года штаты выкупили федеральных бумаг на 8 миллионов долларов - почти треть всего долга.
Растворение государственного долга подрывало правомочность импоста, предназначенного по идее для его погашения. Очередной импост, рекомендованный еще в 1783 году, совершая свой тернистый путь по штатам, весной 1786 года застрял в Нью-Йорке. Таможенные поступления составляли половину доходов штата, и пожертвование части их конгрессу повлекло бы за собой необходимость повышения других налогов, в первую очередь - на землю. Поэтому аграрное крыло Клинтона вопреки агитации Гамильтона и Скайлера в мае 1786 года выставило, по существу, неприемлемые для конгресса условия ратификации импоста. К тому же выяснилось, что его ратификация Пенсильванией и Делавэром также содержала неприемлемые оговорки. Импост был погребен окончательно. В августе конгресс уже обсуждал планы распределения федерального долга по штатам - исчезало последнее оправдание укрепления центральной власти. Время "националистов" истекало.
Между тем никаких средств координации их усилий в национальном масштабе выработано еще не было. В 1785 году в Маунт - Верноне - поместье Вашингтона - встретились представители Вирджинии и Мэриленда для обсуждения вопросов навигации по Потомаку. Там было решено устраивать подобные конференции с привлечением других штатов для утряски торговых разногласий между ними. Мэрилендцы вскоре пригласили представителей Делавэра и Пенсильвании, а Вирджиния предложила созвать для этих целей конференцию всех штатов в Аннаполисе в сентябре 1786 года. "Националисты" с радостью ухватились за эту затею, рассчитывая наполнить ее политическим содержанием. От Нью-Йорка было избрано шесть их представителей, включая Гамильтона. Другие, разделяя их намерения, не питали особых надежд. За месяц до конференции Мэдисон писал Т. Джефферсону: "Многие в конгрессе и вне его хотят превратить эту встречу в подготовительную для созыва полномочного конгресса с целью изменения "статей конфедерации". Хотя и я желаю того же, но в нынешних кризисных условиях настолько сомневаюсь в возможностях осуществления этого, что не заглядываю дальше торговой реформы". Отказался приехать в Аннаполис Вашингтон, пояснив - время не настало: "Люди еще не доведены до такого состояния, чтобы взяться за преодоление своих ошибок".
Пессимизм этот оказался обоснованным. В Аннаполис прибыло лишь 12 человек из пяти штатов - Нью - Йорка, Нью - Джерси, Пенсильвании, Делавэра и Вирджинии. Серьезного разговора не получилось, делегаты уныло собирались разъезжаться по домам, но Гамильтон не хотел примириться с нулевым результатом: и в условиях провала из конференции нужно выжать все, что можно. Он предложил расширить мандат встречи и от ее имени призвать штаты созвать новый съезд, на этот раз - для изменения государственного устройства.
Многие делегаты возразили против столь решительного тона, и Гамильтону пришлось уступить. Окончательный текст обращения аннаполисской конференции, скорректированный Мэдисоном, звучал весьма неопределенно: в мае следующего года предлагалось созвать в Филадельфии съезд представителей всех штатов для "рассмотрения положения в Соединенных Штатах и разработки таких дальнейших мер, которые окажутся необходимыми для приведения федеральной власти в соответствие с нуждами союза". Этой резолюции суждено было стать формальным основанием конституционного съезда 1787 года, выработавшего окончательную государственную структуру США. Гамильтон, по единодушному мнению его апологетически настроенных биографов, "поднял занавес" этого съезда. Но его действия в Аннаполисе приобрели видимость прозорливости только при ретроспективном взгляде. Тогда он действовал наугад и, как и все участники встречи, не ожидал столь внушительных последствий. Конгресс даже не стал рассматривать резолюцию, похоронив ее в одном из своих комитетов, откуда она была извлечена только в результате неожиданного разворота событий.
Вернувшись из Аннаполиса, Гамильтон застал Нью - Йорк в возбуждении: все только и говорили, что о серьезных волнениях в Массачусетсе. Кризис там назревал уже давно. Местные консерваторы, воспользовавшись антидемократической конституцией 1780 года, овладели легислатурой и принялись наводить порядок. Их план погашения долга штата в угоду крупным кредиторам предусматривал выплату процентов по нему в звонкой монете, которую предполагалось собрать при помощи невыносимо высоких налогов, примерно в четыре раза превышающих налоги в других штатах Новой Англии. Частные же долги должны были выплачиваться не по прямому курсу обесценившихся бумажных денег, а по их первоначальной нарицательной стоимости. Большинству должников это было не по карману, и тогда их собственность конфисковывалась в судебном порядке по грабительски заниженным ценам. После петиций и протестов терпение бедняков лопнуло, и в октябре разразилось восстание под руководством бывшего капитана континентальной армии - бедного фермера Даниэля Шейса.
Восставшие числом более тысячи осадили здание окружного суда в Спрингфилде и парализовали работу судов во всей округе. Они требовали снижения налогов и ликвидации долговой тюрьмы. Бунт разгорался все сильнее: был образован повстанческий комитет, налажено военное обучение. Насмерть перепуганные бостонские богачи снарядили за свой счет карательный отряд генерала Б. Линкольна (в конгрессе денег на это не нашлось), который в конце января занял Спрингфилд. Шейс предпринял отчаянную попытку захватить спрингфилдский арсенал, но атака была подавлена артиллерией, а повстанцы рассеяны.
Одновременно накалялась обстановка в Род - Айленде. Происходящее там было полной противоположностью событиям в Массачусетсе по своим причинам, но не по последствиям. Демократическая легислатура штата защищала интересы должников. Летом 1786 года она выпустила на 100 тысяч долларов бумажных денег в качестве законного платежного средства, которые использовала для займов фермерам на очень льготных условиях. Суды стали принуждать торговцев и других кредиторов принимать эти деньги к оплате долгов, что привело к открытым уличным столкновениям, по ожесточению напоминавшим схватки лоялистов и патриотов в годы войны - с той разницей, что на сей раз размежевание происходило строго по классовому признаку.
События в Род - Айленде, а главное - восстание Шейса прозвучали набатом для сторонников решительных мер. Наконец-то они получили прекрасную возможность, размахивая пугалом мятежа, подстегнуть всех колеблющихся. Надо было ковать железо, пока горячо. "Нынешний момент, - писал богатый массачусетский торговец С. Хигинсон генералу Ноксу 12 ноября, - чрезвычайно благоприятен для осуществления дальнейших необходимых мер по придаче правительству энергии и достоинства. То, что произошло, должно быть использовано как капитал, с которого можно снимать проценты...".
"Националисты" сеяли панику, сосредоточив свое внимание на том, чтобы воздействовать на Вашингтона: в те дни он получал десятки пугающих писем. Даже сдержанный Джей зашел весьма далеко: "Что делать? Завести короля? По-моему, еще не время, пока не испробованы другие средства. Может быть - генерал-губернатора? Разбить конгресс на нижнюю и верхнюю палаты: первую избирать ежегодно, вторую - назначать пожизненно... Какой же властью наделить государство? Я думаю, чем большей - тем лучше".
Наиболее ретивые "националисты" уже провидели близкую катастрофу: "Пламя бунта готово вспыхнуть в любом уголке всего континента, мы ходим по пеплу, под которым тлеет огонь", - писал Ф. Эймс. Он предрекал времена, когда американцы впадут в состояние варварства и займут свое место позади индейцев.
В зловеще-паническом хоре "националистов" слышался и голос Гамильтона. К этому времени он возглавил в легислатуре Нью-Йорка кампанию за пересмотр "статей конфедерации", резко оживившуюся после событий в Массачусетсе. Главный козырь в его выступлениях - угроза деспотизма, которую он, ничтоже сумняшеся, выводит прямо из массачусетского бунта. "Кто может определить последствия недавних волнений, возглавь их Цезарь или Кромвель? - потрясал он своды собрания с пафосом, достойным лучшего применения. - Кто может предсказать последствия деспотизма, установленного было в Массачусетсе, для свобод Нью - Гемпшира, Род - Айленда или Нью - Йорка?".
Лихорадочная активность "националистов" на этот раз принесла свои плоды. Вашингтон, по его собственному признанию, был "невыразимо напуган". Бывший боевой офицер его армии поднял опору революции - Массачусетс на "грозный мятеж против законов и конституции, нами же выработанных". Он направил паническое письмо Нокса с описанием волнений в легислатуру Вирджинии со следующей припиской: "Могут ли быть более убедительные доказательства недостатка энергии в нашем правлении, чем эти беспорядки? Если нет власти для их обуздания, то как же предохранить жизнь, свободу и собственность людей?"
Перепуганные деятели аграрных районов страны, прежде выступавшие лишь за ревизию "статей конфедерации", в большинстве своем теперь примкнули к сторонникам решительного образа действий, укрепляя буржуазно-плантаторский блок, ставший политической основой всего движения за централизацию государственной власти. В феврале конгресс санкционировал предложенный съезд в Филадельфии, подписав себе тем самым смертный приговор. Делегаты на съезд выбирались отнюдь не рядовыми избирателями, а легислатурами штатов. От состава съезда, естественно, зависело очень многое. "Ради бога, будьте чрезвычайно внимательны в выборе делегатов.., - наставлял Р. Кинг массачусетца Элбриджа Герри, - приближается критический момент, предусмотрительные и надежные люди должны быть готовы использовать наиболее благоприятные обстоятельства для учреждения более стабильного и решительного государства".
И в самом деле для крупной буржуазии в предстоящей партии ставки были едва ли ниже, чем в годы войны с Англией. Тогда решался вопрос о том, быть или не быть независимому американскому государству, теперь же - каким ему быть. Будущие "отцы - основатели" прекрасно сознавали свою ответственность за формирование надлежащего государственного строя. К этому их побуждала общность материальных интересов крупных собственников. Но не только это. Ведущих лидеров "националистов" - Вашингтона, Моррисов, Джея, Гамильтона, Нокса, Вильсона, Дюана и др. объединяло нечто большее. У всех за плечами был опыт работы в годы войны, который сформировал общий "континентальный" взгляд на государственные проблемы. Все они были мало привязаны к штатам, где первенствовали политики другой школы, умевшие ладить с избирателями. Все их политическое будущее всецело зависело от существования централизованного национального государства. Кроме того, это были политики консервативного элитарного типа, убежденные в естественности и целесообразности иерархической структуры общества, в котором управление государством является исключительной прерогативой просвещенной аристократии - "родовитых и богатых", как говорил Мэдисон, а не черни и ищущих у нее популярности демагогов.
Только эта "элитарная солидарность" может объяснить ту удивительную сплоченность, какую выказали "националисты" весной - летом 1787 года. Словно повинуясь какой-то, слышной им одним команде, деятели со всех концов страны, преодолев на время свои региональные экономические и политические разногласия, устав, по выражению Нокса, от "безумств нынешнего правления", съезжались в Филадельфию, чтобы ликвидировать опасность, угрожавшую, как им казалось, самим устоям общества. То была поистине тотальная мобилизация всех лучших сил "националистов". "Повсюду люди здравого смысла, наделенные добродетелью и собственностью, - сообщал в Париж Д. Катинг Т. Джефферсону, - почти все наши просвещенные и ведущие деятели всех штатов встают в поддержку идеи усиления государства".
Напор "националистов" был так силен и неожидан, что застиг их противников - будущих антифедералистов врасплох. В составе делегатов оказалось всего четверо "инакомыслящих": Лансинг и Йейтс из Нью - Йорка, Дж. Мэйсон из Вирджинии и Э. Герри из Массачусетса. Избранные делегатами Патрик Генри и Р. Ли отказались поехать в Филадельфию. Сторонясь, они недоуменно наблюдали, как "первые люди" страны собирались на свой съезд. "Накипь, всплывшая на поверхность в годы войны, идет ко дну, и чистый дух занимает ее место", - с удовлетворением констатировал Б. Раш.
Холодным дождливым утром 29 мая 1787 г. 55 делегатов из 12 штатов (Род - Айленд отказался участвовать) собрались в здании филадельфийского Стейт - хауз, где раньше заседал конгресс, для того чтобы "привести революцию к счастливому завершению", как выразился Вашингтон. Что понималось под этим, стало очевидно после вводного слова губернатора Вирджинии У. Рэндольфа, который заявил, что "главная опасность, угрожающая нам, проистекает от демократического начала наших конституций..." Его дополнил Г. Моррис, заявив о главной задаче замышляемого государственного устройства: "Жизнь и свобода обыкновенно наделяются большей ценностью, чем собственность. Однако, как показывает трезвый взгляд на вещи, именно собственность и есть главная цель общественного устройства... Люди объединяются не во имя жизни или свободы - и тем и другим они в избытке наделены даже в варварском состоянии; они объединяются для защиты собственности".
Съезд заседал при наглухо закрытых дверях, делегаты поклялись не разглашать дебатов (они были опубликованы лишь спустя много лет), и эта процедура, к счастью для истории, сохранила для нас неподдельный строй мышления американской элиты. Филадельфийское собрание превратилось как бы в уникальную социальную лабораторию, где "отцы-основатели", действуя в стерильных условиях секретности, апробировали различные варианты создания крепкого буржуазного государства. Они вполне сознавали расхождение своих интересов с интересами народа и в случае необходимости были готовы к самым решительным действиям. "Слишком вероятно, что ни один из наших планов не будет принят, - говорил Вашингтон Г. Моррису. - Возможно, придется пройти через еще один ужасающий конфликт. Если для того, чтобы ублажить народ, мы предложим то, чего сами не одобряем, то как же мы сможем затем защищать наши предложения?"
Хотя мандат съезда был весьма неопределенным и давал право, самое большее, на ревизию "статей конфедерации", делегаты, провозгласив себя "гласом народным", отбросили все ограничения в стремлении к коренной реорганизации политического строя. "Увеличивать вес старого здания, - считал, например, один из главных законодателей на съезде Джеймс Вильсон, - значит ускорять его разрушение". "Если бы бросить все конституции штатов в огонь, а всех демагогов _ в океан! Что за счастье это было бы для Америки!" - мечтал Г. Моррис. Вскоре эти настроения были облечены в форму конкретных предложений.
Первым был выдвинут так называемый "план Вирджинии", предвосхитивший основные черты будущей конституции страны и получивший поддержку большинства делегатов. "План Нью - Джерси", представленный 15 июня и отражавший интересы малых штатов, предусматривал лишь модификацию "статей конфедерации" путем передачи конгрессу дополнительных полномочий по регулированию внешней и межштатной торговли, введению таможенных пошлин и других налогов. 16 июня началось обсуждение обоих планов; 18 июня, когда в дискуссию включился Гамильтон, оно находилось в самом разгаре.
Его положение на съезде было сложным. Один из непосредственных его инициаторов, он был самым молодым делегатом после 29-летнего Ч. Пинкни - средний возраст "отцов-основателей" составлял 43 года. К тому же при всех явных симпатиях к централизованной государственной власти до этого он всерьез не занимался теорией государственного устройства. Поэтому ему было довольно трудно тягаться с такими корифеями в этой области, как Мэдисон и Вильсон, задававшими тон на съезде. Наконец, в нью-йоркской делегации он был единственным "националистом", блокированным двумя ставленниками Клинтона - приверженцами прав штатов - Йейтсом и Лансингом.
И все же он сказал свое слово. Его речь была подготовлена заранее, но непосредственным толчком для ее произнесения, видимо, послужило острое разочарование обоими представленными проектами, особенно вторым из них; все это слишком походило на злосчастную конфедерацию - "та же самая свинина в другой подливке".
Нужно было как-то подстегнуть дебаты, нацелить делегатов на гораздо более решительный тон. Зная честолюбивую натуру Гамильтона, его постоянное стремление воздействовать на ход событий, трудно представить, как он смог бы остаться в стороне. Где же, как не здесь, в кругу "избранных", мог он с полной откровенностью и серьезностью предлагать свои самые заветные идеи? "Наше положение особенное, - говорил он, - оно дает нам простор мечтать, как мы только хотим". О чем же мечтал Гамильтон?
Его исходные посылки, как свидетельствуют дошедшие до нас изложения Мэдисона и Йейтса, остаются неизменными: "Все общества разделяются на избранных и многих. К первым относятся богатые и родовитые, к последним - масса народа". Что лежит в основе этого деления, было ясно всем присутствующим. "Имущественное неравенство составляет огромное и важнейшее различие в обществе. Оно так же вечно, как и свобода". "Говорят, что глас народа - глас божий, но, как бы часто это ни повторяли и ни принимали на веру, в действительности это не так. Народ буен и изменчив, он редко судит или решает правильно". Логика Гамильтона: поскольку деление общества на классы неизбежно, оно должно получить конституционное выражение. "Поэтому предоставьте первому классу твердую и постоянную роль в управлении государством. Он сдержит неустойчивость другого класса и, поскольку ничего не выиграет от перемен, всегда будет поддерживать хорошее правление". Иными словами, экономическое и политическое господство класса "богатых и родовитых" необходимо закрепить конституционно - в соответствии со знаменитым афоризмом Дж. Джея: "Те, кто владеет страной, должны и править ею".
Ключевой в этой связи представляется Гамильтону роль верхней палаты - сената, который и должен стать конституционным воплощением власти имущей аристократии. Наподобие членов английской палаты лордов, "этого самого благородного института", сенаторы должны избираться через систему выборщиков на срок "достойного поведения", то есть практически пожизненно, за исключением случаев грубых нарушений законности, преследуемых в порядке импичмента. Пожизненное избрание призвано было придать сенаторам независимость от народа, обеспечить устойчивость и преемственность ("постоянную волю", по Гамильтону) государственной политики. "Может ли демократическая палата, которая ежегодно окунается в массу народа, упорно отстаивать общественное благо? - восклицал оратор. - Только пожизненно избранный орган в силах противостоять безрассудству демократии".
То, что такой сенат неизбежно превратился бы в могущественный закрытый олигархический клуб, не смущало Гамильтона. Сенат в его схеме и призван был играть роль исполнительного комитета крупной буржуазии: по его логике, было гораздо честнее узаконить ведущую роль крупных собственников, открыто предоставить им бразды правления, нежели вынуждать их идти обходным путем, подкупая представительные учреждения или вовсе игнорируя их, ибо так или иначе все решает тот, у кого в руках кошелек.
Он был готов открыто обеспечить богатым главный пай в государстве потому, что как реалист и прагматик понимал: в обществе, основанном на частной собственности, решающее слово неизбежно принадлежит крупнейшим ее владельцам. Для Гамильтона это было непреложным законом, из него он исходил во всех своих проектах начиная с военных лет. Мы можем быть благодарны Гамильтону за ту предельную ясность, с какой он определил это главное условие существования буржуазного государства.
В этом, пожалуй, и состоит его основной и своеобразный вклад в буржуазную политическую науку, с предельной наглядностью подтверждающий правоту марксистско-ленинского учения о буржуазном государстве. "Можно спорить с гамильтоновским определением главного из общественных интересов или обвинять Гамильтона в том, что он привлекал его слишком рьяно, - писал, например, один из видных идеологов современного консерватизма К. Росситер, - но нельзя не признать, что он открыто указал на ту реальность политической жизни, которой втихомолку отдавали и отдают дань все преуспевающие американские политики. Особое достоинство его как политического мыслителя заключается в той освежительной прямоте, с которой он многократно ссылался на этот основополагающий принцип своего политического мировоззрения".
Вместе с тем благоденствие денежных мешков для Гамильтона вовсе не было самоцелью. В душе он даже презирал алчных толстосумов, думающих только о наживе: "Скажу тебе по секрету, - писал он в свое время другу Лоуренсу, - я ненавижу людей, поглощенных деланием денег". Они были лишь наиболее подходящим материалом для создания опоры государства, ибо даже сама их жадность служила ему на пользу: "их пороки, видимо, более благоприятствуют процветанию государства, чем пороки нуждающихся". Гамильтон апеллировал не только к своекорыстию, но и к "добродетели" собратьев по классу, усматривая последнюю в способности подчинить свои непосредственные личные интересы "интересам национальным", определение которых составляет главную задачу государственного правления. Мощь и слава государства были для него превыше индивидуально-эгоистических интересов любых членов общества. В этом смысле его действительно можно назвать "Руссо правых", по образному выражению американской исследовательницы С. Кеньён.
Не случайно Гамильтон выступал против ничем не ограниченного господства олигархии; слишком часто, как показывала история, оно приводило к деспотизму или, напротив - анархии. "Подлинная свобода, - говорил он на следующем обсуждении, - кроется не в деспотическом строе или крайностях демократии, а в умеренном правлении". Поэтому он добавлял к чистой олигархии демократический противовес в виде нижней палаты - ассамблеи, избираемой раз в три года прямыми выборами, открытыми для всех белых мужчин. Но и это еще не все. "Власть должна быть в руках обеих палат, - намечает он в тезисах своего выступления, - они должны быть разделены... И в этом случае им требуется общий противовес. Этот противовес - монарх". На съезде Гамильтон предпочитал именовать его губернатором, но смысл от этого не менялся.
"Губернатор", выбираемый на срок "достойного поведения" по сложной трехступенчатой системе выборов, наделялся широкими полномочиями: правом абсолютного вето, всей полнотой исполнительной власти, правом назначения главных должностных лиц, командованием всеми вооруженными силами. Таким образом, монарх-губернатор, по мысли Гамильтона, призван был служить не только "общим противовесом" двух палат, но и главным средоточием государственной власти, ибо "республика не допускает решительного правления, в котором и состоит все достоинство государства". Другое важное преимущество монархии Гамильтон усматривал в слиянии личного интереса монарха с интересами его государства. "Наследственный интерес короля настолько тесно связан с интересами государства, и его личный доход так велик, что ставят его вне опасности подкупа извне и в то же время делают его достаточно независимым и достаточно связанным внутри страны". В концепции монархии Гамильтон прямо следует Гоббсу, у которого он многому научился. "Общие интересы.., - писал английский философ, - больше всего выигрывают там, где они более тесно совпадают с частными интересами. Именно такое совпадение имеется в монархии.
Богатство, могущество и слава монарха обусловлены богатством, силой и репутацией его подданных...". Вместе с тем гамильтоновская концепция была чисто буржуазной, поскольку расходилась с принципами неограниченной и наследственной монархической власти и не была направлена на защиту сословных интересов потомственной аристократии.
В апологетике сильной центральной власти Гамильтон зашел настолько далеко, что прикидывал возможность упразднения штатов: "Национальная власть... должна поглотить полномочия штатов, иначе они поглотят ее".
Таков в общих чертах этот известный план Гамильтона. Он вовсе не был плодом экстравагантной, капризной мысли: взгляды Гамильтона находились в общем русле классической политической традиции, восходившей еще ко времени Древнего Рима - концепция "смешанного правления". Нелишне напомнить, что до великой французской революции идея республики не была "санкционирована" предшествующим историческим опытом и вовсе не обладала непререкаемым авторитетом. Для поколения Гамильтона, воспитанного на классических традициях, исторические примеры республиканского правления (Рим эпохи республики, полисы Греции, средневековые итальянские республики) наглядно демонстрировали его уязвимость перед напором классовой борьбы. "Невозможно изучать историю малых республик Греции и Италии, - писал Гамильтон несколько позже в "Федералисте", - без чувства ужаса и отвращения перед разбродом, в котором они постоянно пребывали, и перед быстрой чредой революционных потрясений, которые оставляли их в состоянии блуждания между крайностями тирании и анархии". В концепции "смешанного правления" его проповедники, начиная с Аристотеля и Полибия и кончая современниками Гамильтона Дж. Адамсом и Дж. Вильсоном, стремились создать оптимальную модель общественного равновесия. В ней комбинировались элементы всех трех известных к тому времени политических форм - демократии, аристократии и монархии с целью соединения их преимуществ и избавления от слабостей каждой. Так, в схеме Гамильтона демократически избираемая ассамблея обеспечивала государству важнейшее преимущество демократии - доверие народа, сенат - государственную мудрость аристократии, а "губернатор" - решительность и исполнительность монархии.
Гамильтон не скрывал, что эталоном для него служила английская государственная система - "наилучшая в мире", "удачнее всех сочетающая мощь государства с безопасностью индивида". В нем боролись противоречивые чувства: с одной стороны, он сознавал, "что было бы неразумно предлагать процветанию государства, чем пороки нуждающихся". Гамильтон апеллировал не только к своекорыстию, но и к "добродетели" собратьев по классу, усматривая последнюю в способности подчинить свои непосредственные личные интересы "интересам национальным", определение которых составляет главную задачу государственного правления. Мощь и слава государства были для него превыше индивидуально-эгоистических интересов любых членов общества. В этом смысле его действительно можно назвать "Руссо правых", по образному выражению американской исследовательницы С. Кеньён.
Не случайно Гамильтон выступал против ничем не ограниченного господства олигархии; слишком часто, как показывала история, оно приводило к деспотизму или, напротив - анархии. "Подлинная свобода, - говорил он на следующем обсуждении, - кроется не в деспотическом строе или крайностях демократии, а в умеренном правлении". Поэтому он добавлял к чистой олигархии демократический противовес в виде нижней палаты - ассамблеи, избираемой раз в три года прямыми выборами, открытыми для всех белых мужчин. Но и это еще не все. "Власть должна быть в руках обеих палат, - намечает он в тезисах своего выступления, - они должны быть разделены... И в этом случае им требуется общий противовес. Этот противовес - монарх". На съезде Гамильтон предпочитал именовать его губернатором, но смысл от этого не менялся.
"Губернатор", выбираемый на срок "достойного поведения" по сложной трехступенчатой системе выборов, наделялся широкими полномочиями: правом абсолютного вето, всей полнотой исполнительной власти, правом назначения главных должностных лиц, командованием всеми вооруженными силами. Таким образом, монарх-губернатор, по мысли Гамильтона, призван был служить не только "общим противовесом" двух палат, но и главным средоточием государственной власти, ибо "республика не допускает решительного правления, в котором и состоит все достоинство государства". Другое важное преимущество монархии Гамильтон усматривал в слиянии личного интереса монарха с интересами его государства. "Наследственный интерес короля настолько тесно связан с интересами государства, и его личный доход так велик, что ставят его вне опасности подкупа извне и в то же время делают его достаточно независимым и достаточно связанным внутри страны". В концепции монархии Гамильтон прямо следует Гоббсу, у которого он многому научился. "Общие интересы.., - писал английский философ, - больше всего выигрывают там, где они более тесно совпадают с частными интересами. Именно такое совпадение имеется в монархии.
Богатство, могущество и слава монарха обусловлены богатством, силой и репутацией его подданных...". Вместе с тем гамильтоновская концепция была чисто буржуазной, поскольку расходилась с принципами неограниченной и наследственной монархической власти и не была направлена на защиту сословных интересов потомственной аристократии.
В апологетике сильной центральной власти Гамильтон зашел настолько далеко, что прикидывал возможность упразднения штатов: "Национальная власть... должна поглотить полномочия штатов, иначе они поглотят ее".
Таков в общих чертах этот известный план Гамильтона. Он вовсе не был плодом экстравагантной, капризной мысли: взгляды Гамильтона находились в общем русле классической политической традиции, восходившей еще ко времени Древнего Рима - концепция "смешанного правления". Нелишне напомнить, что до великой французской революции идея республики не была "санкционирована" предшествующим историческим опытом и вовсе не обладала непререкаемым авторитетом. Для поколения Гамильтона, воспитанного на классических традициях, исторические примеры республиканского правления (Рим эпохи республики, полисы Греции, средневековые итальянские республики) наглядно демонстрировали его уязвимость перед напором классовой борьбы. "Невозможно изучать историю малых республик Греции и Италии, - писал Гамильтон несколько позже в "Федералисте", - без чувства ужаса и отвращения перед разбродом, в котором они постоянно пребывали, и перед быстрой чредой революционных потрясений, которые оставляли их в состоянии блуждания между крайностями тирании и анархии". В концепции "смешанного правления" его проповедники, начиная с Аристотеля и Полибия и кончая современниками Гамильтона Дж. Адамсом и Дж. Вильсоном, стремились создать оптимальную модель общественного равновесия. В ней комбинировались элементы всех трех известных к тому времени политических форм - демократии, аристократии и монархии с целью соединения их преимуществ и избавления от слабостей каждой. Так, в схеме Гамильтона демократически избираемая ассамблея обеспечивала государству важнейшее преимущество демократии - доверие народа, сенат - государственную мудрость аристократии, а "губернатор" - решительность и исполнительность монархии.
Гамильтон не скрывал, что эталоном для него служила английская государственная система - "наилучшая в мире", "удачнее всех сочетающая мощь государства с безопасностью индивида". В нем боролись противоречивые чувства: с одной стороны, он сознавал, "что было бы неразумно предлагать какое-либо другое (не республиканское. - В. Я.) правление", учитывая настроения народа и силу революционных традиций; с другой - сомневался в том, что "Америку устроит более демократическое (чем английское) государство". Единственный выход - оставив республиканскую форму, наполнить ее сугубо антидемократическим содержанием. "Мы должны, - поучал Гамильтон, - зайти так далеко в достижении стабильности и постоянства, как только позволяют республиканские принципы". Проект Гамильтона и устанавливал тот максимум элементов конституционной монархии, который можно было совместить с республиканской формой, - выборность и сменяемость "губернатора" являлись последней спасительной гранью между ними. "Могут спросить, - задавался уместным вопросом оратор, - будет ли это республикой? Да, будет, если все должностные лица назначаются народом или путем выборов, исходящих от народа... Если глава государства может быть подвергнут импичменту, то термин "монархия" неуместен".
Гамильтон признавал, что его план "идет дальше взглядов большинства делегатов" и "вряд ли осуществим для нас". Он предлагал его скорее как некую идеальную модель, к которой следует стремиться.
Даже в сгущенно-консервативной атмосфере филадельфийского собрания горячая пятичасовая речь Гамильтона прозвучала некоторым диссонансом: аудитория была смущена необычным максимализмом и прямотой суждения. Речь не имела зримых последствий: ее почти не обсуждали, "все хвалили", по словам очевидца, "но никто не поддержал" в открытую, кроме Дж. Рида из Делавэра и Г. Морриса.
Это было ударом для Гамильтона, который замолчал до конца съезда и перестал регулярно посещать заседания. Впоследствии это выступление причинило много неудобств исследователям Гамильтона: противники стали изображать его "белой монархистской вороной" в стане истых республиканцев, а апологеты - различными ухищрениями доказывать, что их герой имел в виду нечто другое и его просто неверно поняли. Но анализ самого проекта и поведения Гамильтона на съезде и после него не оставляют сомнений в искренности и серьезности его намерений: то был образец типичной для Гамильтона политической философии, которую он стремился положить в основу проектируемого государства и от которой никогда не отказывался. Его следующий проект, составленный к концу съезда, но так и не представленный на нем, в главных чертах повторял первый вариант. Он имел в виду именно то, что говорил. Но так ли уж сильно он расходился при этом с большинством "отцов-основателей"?
Некоторые существенные положения его плана выдвигались и другими делегатами. Так, Мэдисон первоначально стоял за пожизненное избрание президента, а Г. Моррис и Дж. Вильсон ратовали за придачу ему права абсолютного вето, Дж. Дикинсон, Г. Моррис и Дж. Рид вместе с Гамильтоном настаивали на пожизненном избрании сенаторов. Но главный элемент общности заключался все-таки не в этих отдельных совпадениях, а в самом духе подхода.
Абсолютное большинство делегатов, как и Гамильтон, помышляли об обуздании демократии и создании государства крупных собственников - торгово-промышленной буржуазии и плантаторов. Различия в их позициях действительно были, но они касались не сути вопроса, а лишь способов обуздания народа.
При этом "отцы-основатели", ясно сознавая свою ответственность за судьбы создаваемого ими государства, не замыкались в текущем моменте, а смотрели далеко вперед. Самое серьезное и откровенное высказывание Мэдисона выдержано полностью в гамильтоновском ключе и недаром было горячо им одобрено: "Создавая систему, которая, как мы хотим, существовала бы столетия, мы не должны упускать из виду перемен, которые внесут эти столетия. Рост населения неизбежно увеличит долю тех, кто трудится в бедности, тайно вздыхая о более равномерном распределении жизненных благ, - наставлял коллег Мэдисон. - Со временем их может стать больше, чем людей, не знающих нужды. По закону равного права голоса власть перейдет в их руки... Имеющиеся кое-где симптомы уравнительного духа уже дают представление о грядущей опасности. Как же предупредить ее, опираясь на республиканские принципы? Как предотвратить опасность угнетения меньшинства коалициями интересов? Среди прочих средств - учреждением государственного органа (сената. - В. Я), достаточно почитаемого за свою мудрость, для помощи в таких случаях... Учитывая такое назначение того органа, следует избрать его на более длительный срок". Те же доводы приводил и Г. Моррис, оправдывая необходимость введения имущественных избирательных цензов.
В то же время ядро делегатов, его главные теоретики и вдохновители - Мэдисон, Вильсон, гораздо более реалистично, чем Гамильтон, оценивало демократические потенции Америки. "Все устремления американского народа, - предупреждал вирджинец Дж. Мэйсон, - направлены к демократии, и они должны быть приняты во внимание". "Никакая другая форма (кромереспубликанской. - В. Я), - подытожил Мэдисон в "Федералисте", - несовместима с настроением Америки, с принципами революции". Нужно было учитывать неприязнь народа к английской монархии и избегать явного сходства с нею.
Америка, по словам Вашингтона, походила на тяжелого больного, которому срочно требовался врач, но делегаты хорошо понимали: как бы ни был плох этот больной, он все еще в силах вышвырнуть врача за дверь, если подойти к нему с гамильтоновскими ухватками костоправа. Здесь требовались средства похитрее.
Будущий "отец" американской конституции Джеймс Мэдисон и его единомышленники, исходя из реальной послереволюционной ситуации, больше полагались на создание конституционных преград на пути демократии. Сохраняя формально принцип народного суверенитета и отказываясь от гамильтоновского узаконения классовой иерархии общества, они стремились максимально обезопасить "демократическое" государство от народа, надежно ограничив это народное волеизъявление на всех уровнях: посредством избирательных цензов, многоступенчатых выборов, системы "сдержек и противовесов" различных органов власти, широкими полномочиями президента и судебной власти и т. п. Говоря о хитроумном подходе "отцов-основателей", патриарх американской историографии Чарлз Бирд в свое время писал: "...Мы не можем не поражаться их искусству. Главная идея заключалась в том, чтобы расколоть атакующие силы (демократии. - В. 77.) еще на дальних подступах - путем разделения государственной власти между различными органами". Это первоначальное раздробление затем усугублялось различиями в сроках переизбрания этих органов. Венцом-противовесом "заинтересованного и доминирующего большинства", как выражался Мэдисон, служило исключительное положение судебной власти - "использование авторитета и таинства закона для отражения атак демократии".
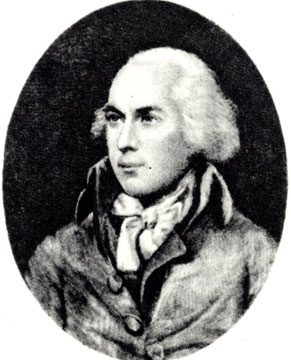
Джеймс Мэдисон
Для Гамильтона хитросплетения конституционализма казались недостаточно надежной гарантией по сравнению со строгим разграничением демократического, аристократического и монархического органов власти: как может "демократическая ассамблея сдерживаться демократическим сенатом и оба - уравновешиваться демократически избираемым главою государства?"
В оценке же исхода "республиканского эксперимента" большинство делегатов разделяли пессимизм Гамильтона. Вслед за Мэдисоном они предвидели в будущем неизбежное размывание главной опоры аграрной республики - слоя землевладельцев, а с ним - неумолимую поляризацию общества и концентрацию экономической и политической власти в форме той же монархии. Мэдисон предсказывал конец республики через 142 года (т. е. приблизительно в 30-х гг. XX века, действительно отмеченных небывалыми кризисными потрясениями в США). По его подсчетам, к этому времени население страны должно было приблизиться к 200 миллионам человек, что свело бы на нет "драгоценное преимущество" Америки в виде широкого распределения земельной собственности и "всеобщей надежды на ее приобретение". Страна, перенаселенная, как Франция и Англия, с обществом, расколотым на "богатых капиталистов" и "нуждающихся работников", потребует иной конституции - "наподобие английской". О том же говорили Дж. Адаме, Г. Моррис и даже Франклин: "Боюсь, что правительство этих штатов кончит в итоге монархией. Но эту катастрофу, я думаю, можно надолго отложить".
Основатели американского государства, как нам теперь очевидно, во многом верно угадывали будущее демократии в своей стране, однако они недооценивали возможностей своего собственного детища - конституции, которая и через два века оказалась достаточно эластичной, чтобы вместить невиданную по тем временам концентрацию власти монополистической буржуазии и сохранить при этом свою изначальную квазидемократическую форму.
Таким образом, схема Гамильтона была лишь наиболее доктринерским, максималистским выражением общих настроений филадельфийского съезда. Она, как увеличительное стекло, позволяет лучше разглядеть общий замысел "отцов-основателей". Гамильтон был слишком старомоден и одновременно - чересчур радикален в своем консерватизме и потому оказался отвергнутым. В защите интересов крупных собственников он оказался большим роялистом, чем сам король, хотя не был ни крупным землевладельцем, ни торговцем, ни держателем государственных ценных бумаг, существуя за счет своей юридической практики. Ч.Бирд, в своем классическом труде "Экономическая интерпретация конституции Соединенных Штатов" доказавший непосредственную материальную заинтересованность "отцов-основателей" в созданной ими конституции, скрупулезно исследовал сферу материальных интересов Гамильтона и пришел к выводу о том, что "в период создания конституции он был всецело движим принципиальными вопросами государственной политики, а отнюдь не какими-то личными материальными интересами, так часто ему приписываемыми".
Принятая съездом конституция отвечала основным требованиям "националистов". Федеральное правительство получило право налогообложения, содержания постоянной армии, регулирования межштатной и внешней торговли, контроля над денежной системой (эмиссия бумажных денег штатами была запрещена), выплаты государственного долга; подтверждалась нерушимость контрактов. Так что не экономическое или внешнеполитическое содержание конституции не устраивало Гамильтона, а прежде всего - сама схема государственного устройства, которой, по его мнению, не хватало централизации и независимости от народа. Все же с ее принятием практик в нем взял верх над доктринером. "Ничьи представления не были так далеки от этого плана, как мои, - заявил он на заключительном заседании, - но можно ли колебаться в выборе между анархией и потрясениями, с одной стороны, и вероятностью блага, ожидаемого от плана, - с другой?" В душе Гамильтон так и не примирился с конституцией, всю жизнь продолжая считать ее "хилым и никчемным устройством". Но как политик и юрист он знал, что многое будет зависеть от интерпретации конституции и конкретного приложения ее на практике. Это оставляло кое-какие надежды.
Так под текстом конституции появилась подпись: "От Нью - Йорка - Александр Гамильтон". Поскольку Йейтс и Лансинг в знак протеста покинули съезд, подпись эта ни к чему не обязывала штат Нью-Йорк.
* * *
Мало было выработать конституцию, нужно было еще и навязать ее народу. Именно навязать, ибо "архитекторы" нового государства отнюдь не ожидали восторженного приема своего детища. Съезд, как сообщал Джефферсону Мэдисон, находится "в полнейшем неведении относительно будущего конституции после ее публикации". Переписка "отцов-основателей" осенью - зимой 1787-1788 годов проникнута чувством тревоги. И действительно, у федералистов, как они сами себя вскоре окрестили, были основания для опасений.
Их противники из числа последовательных демократов и сторонников прав штатов, получившие соответственно обидное прозвище антифедералистов, без труда различили сущность филадельфийского проекта. Один из них - Р. Генри Ли в нашумевших "Письмах фермера - федералиста республиканцу" определил ее весьма точно: "Всякий здравомыслящий человек должен видеть, что предлагаемая перемена сводится к передаче власти из рук многих немногим". Новая конституция шла вразрез с радикально - вигистскими представлениями образца 1776 года: поскольку власть всегда враждебна по отношению к управляемым, то она должна быть максимально ослаблена и децентрализована. С этих ортодоксальных позиций и атаковали проект антифедералисты.
Одно из самых обстоятельных выступлений против предложенной конституции - анонимные "Письма часового" из Пенсильвании - позволяет понять всю разницу между прежним демократическим идеалом и новыми консервативными веяниями. В одном из писем говорится: "Наибольшая ответственность достигается лишь созданием простой структуры государства, ибо большинство людей никогда пристально не следят за действиями правительства и ввиду нехватки необходимой информации могут быть легко обмануты. Если вы усложните схему различными пристройками, народ будет запутан и разноречив в своем мнении об источниках несправедливости..."
Большая часть противников новой конституции выступала за частичное расширение полномочий континентального конгресса в области налогообложения, регулирования торговли и не видела необходимости в столь резком пересмотре, который федералисты пытались оправдать туманными "чрезвычайными" обстоятельствами. "Говорят, что страшные напасти обрушились бы на нас, если бы съезд не принял этого плана. Я спрашиваю, где эта опасность..? - восклицал самый, пожалуй, красноречивый оратор антифедералистов Патрик Генри из Вирджинии. - Не издевательство ли это над здравомыслием соотечественников... И в то же время - кто знает, какие опасности таятся в самом этом плане? Они незаметны для простого люда; он не может предвидеть скрытых последствий". Мнению простых людей, впрочем, не придавалось особого значения. В конечном счете в ратификации конституции смогли принять участие всего около 100 тысяч человек - менее 3% населения страны. Хотя размежевание сторонников и противников новой конституции проходило не по строго классовому принципу, преобладающая тенденция была несомненна: по имеющимся подсчетам, за конституцию выступало пять шестых всех торговцев, более двух третей юристов, семь восьмых судовладельцев и крупных промышленников.
Антифедералисты били по самым существенным положениям конституции: аристократический сенат, широкие полномочия президента и недемократичность его избрания, отсутствие билля о правах, поддержание регулярной армии, независимость судебной власти. Предстояла тяжелая борьба в штатах.
В Нью - Йорке сложилась сильная антифедералистская группировка во главе с Клинтоном, Лансингом, Йейтсом и М. Смитом. Они распространяли памфлеты и листовки, вели агитацию на местах, готовились к решающей схватке на ратификационном съезде штата.
Вновь взявшись за перо, Гамильтон понял, что задуманное систематическое обоснование конституции не под силу ему одному, и обратился за помощью к двум другим известным "златоустам" - Джею и Мэдисону, находившимся тогда в Нью-Йорке на заседаниях конгресса. Те согласились, и уже 27 октября в нью-йоркской газете "Индепендент джорнэл" появилась первая статья Гамильтона, положившая начало знаменитой серии "Федералист". Под ней стояла подпись "Публий" - авторы намеренно взяли имя римского героя, учредившего, по преданию, справедливую республику.
"Новая конституция! Все только и кричат об этом, - писал в те дни из Нью-Йорка Г. Нокс Салливану о разгоревшихся памфлетных баталиях. - Сколько бумаги изводится по этому поводу, а многое из написанного, наверное, так и не читается обеими сторонами!" Статьи "Публия" читали внимательно. Они не только стали библией федералистов, но и до сих пор считаются лучшим толкованием конституции США. Гордость и классика американской политической науки создавалась в рекордно короткие сроки: все 85 статей, составляющие целую книгу, были написаны за восемь месяцев (с октября 1787 по август 1788 г. с перерывом в мае - апреле) - в среднем по две-три статьи в неделю или по тысяче слов в день. Согласно семейной легенде, Гамильтон написал первый выпуск на баркасе по пути из Олбани в Нью - Йорк. Если это и преувеличение, то небольшое. Джей, написав лишь пять статей, заболел, и вся тяжесть труда легла на Мэдисона и Гамильтона, прежде всего - на последнего, так как Мэдисон весной вернулся в Вирджинию. Оставшиеся 26 выпусков выпали на долю Гамильтона. Всего он написал 53 статьи для "Федералиста", а Мэдисон - 27. Если учесть, что дни у него отнимала юридическая практика, к которой добавлялась активная деятельность в легислатуре штата, то работоспособность Гамильтона просто поразительна. Печатный станок неумолимо диктовал ритм, и часто, как вспоминал Мэдисон, статьи дописывались в присутствии подгоняющего издателя, который тотчас же относил их в типографию. Времени для детального согласования и обмена мнениями у авторов не было: нередко им приходилось впервые видеть сочинения друг друга уже в газете. Они лишь в общих чертах поделили сферы деятельности: Джей взял на себя вопросы внешней политики, Мэдисон - обоснование соответствия конституции республиканским принципам, а Гамильтон - доказательство недостаточности конфедерации и необходимости сплоченного союза.
Такое разделение труда между двумя последними как нельзя лучше отвечало их взглядам и наклонностям: если Гамильтон доказывал необходимость сильной власти, то Мэдисон успокаивал читателей относительно ее безопасности и соответствия подлинно республиканским началам.
Поставленная задача все же предусматривала общность основных посылок авторов, которые сходились на необходимости усиления государства, защиты прав меньшинства, неприязни к прямому волеизъявлению народа и трактовке натуры человека как эгоистической. Близость этих исходных позиций Гамильтона и Мэдисона, а также очень сходный стиль изложения - сдержанный, бесстрастный и отточенный - превратили выяснение авторства ряда статей "Федералиста" в мучительную проблему для американских историков, поскольку оба основных автора оставили на этот счет разноречивые сведения. Со временем она стала классической задачей, и только в 1964 году текстуальный анализ с применением ЭВМ положил конец долгим разногласиям.
Оказалось, что ближе всего к истине были те ученые, которые исходили из особенностей мышления каждого автора, отраженных в "Федералисте". И действительно, как ни изощрялся Гамильтон, подлаживаясь под академический мэдисоновский конституционализм, его воинствующий антидемократизм нередко прорывается наружу. При внимательном анализе "Федералист", как писал А. Мэйсон, страдает "раздвоением личности".
В первую очередь это касается трактовки классовой роли государства и сферы его полномочий. Необходимость усилить аппарат подавления буржуазного государства, стремление к максимальному упрочению государственной власти в условиях антагонизма верхов и низов - все эти авторитарные нотки звучат у Гамильтона резче, чем у Мэдисона. Так, в девятом выпуске, рассматривая опасность классовой борьбы в условиях республики, он усматривает преимущество "прочного союза" штатов в том, что он "обеспечивает их спокойствие и свободу, служит барьером против внутренних фракций и бунтов". Там же он предполагает использование регулярной армии для удержания "бедноты на своем месте", а в шестнадцатом выпуске резонно замечает, что "центральное правительство располагает большими ресурсами для подавления беспорядка", чем власти штатов.
Для богачей, еще не пришедших в себя после восстания Шейса (оно упоминается в "Федералисте" много раз), это, должно быть, звучало весьма утешительно. Однако этого никак нельзя было сказать о малоимущих. И не случайно в следующем, своем знаменитом десятом выпуске Мэдисон счел необходимым слегка подправить Гамильтона. В его трактовке главная политическая функция государства - вовсе не подавление, а предотвращение борьбы классов. Вместо отчетливой биполярной схемы деления общества на имущих и неимущих Мэдисон создает новую, многополярную модель, отмечая наличие в обществе различных интересов: "землевладельческого, промышленного, торгового, финансового и многих других помельче.., приходящих в столкновение друг с другом", регулирование которых и "составляет главную задачу современного законодательства". К тому же регулирование этих интересов с целью предотвращения "деспотизма большинства", по Мэдисону, в условиях обширной республики происходит в значительной степени автоматически - путем их взаимного сбалансирования. "Расширьте территорию, и вы получите большее разнообразие партий и интересов; вы уменьшите вероятность появления у большинства населения общего побуждения посягнуть на права других граждан, и если такое побуждение все же возникнет, тем, кто его испытывает, будет труднее выявить свою силу и выступить сообща".
Вирджинец с большой осторожностью обходил вопрос о пределах государственной власти, смущавший многих американцев. Изменения, предлагаемые конституцией, успокаивал Мэдисон, "заключаются не столько в предоставлении государству новых полномочий, сколько в восстановлении его первоначальной власти... Полномочия, предоставляемые новой конституцией государству, немногочисленны и строго определенны". А вот что говорит по этому поводу Гамильтон в двадцать третьем выпуске "Федералиста": было бы "неразумно и опасно отказывать федеральному правительству в неограниченной власти в тех сферах, которые вверены его управлению".
Мэдисон не скупился на реверансы в адрес старых вигистских заповедей "слабого государства": "Не приходится отрицать, что власть имеет тенденцию узурпироваться и должна эффективно сдерживаться в отведенных ей пределах". Или - "сравнивая эти ценные компоненты (энергичность и стабильность государства. - В. П.) с жизненными принципами свободы, мы должны сразу же уловить трудность сочетания их друг с другом в необходимой пропорции".
Эти "трудности" ничуть не заботили Гамильтона. С прежним воодушевлением он воспевает силу государственной власти. "Существует представление о том, что решительность исполнительной власти несовместима с духом республики... Напротив, она есть главный момент в определении качества правления. Решительность необходима для защиты общества от нападения извне. Она же не менее необходима для строгого исполнения законов, защиты собственности... и предохранения свободы от происков и нападок амбиции, фракционности и анархии". В этом же духе он обосновывал необходимость наделения президента широкими полномочиями. Двенадцать гамильтоновских номеров "Федералиста", посвященных этому вопросу, заложили основу современной концепции "сильной президентской власти".
Наибольшей степени изощренности достигает Гамильтон в вопросах обоснования верховенства федеральной судебной власти и ненужности билля о правах. Билль о правах как конституционная гарантия гражданских прав и свобод от притеснений государства был неотъемлемым атрибутом ортодоксального вигизма, выведенным еще из опыта английской буржуазной революции XVI1 века и включенным в конституции большинства штатов. Теперь же конституционалисты, в том числе и Гамильтон, хитроумным скачком "преодолели" антагонизм государства и общества: коль скоро народ формально наделялся верховным суверенитетом, то государство превращалось из господина в слугу народа и уже поэтому никак не могло ущемить его прав. По новой конституции, в билле о правах нет нужды, пояснял Гамильтон, ибо, в отличие от английского, "наш народ никому не отдавал своей власти, а потому сам сохраняет ее во всей полноте и не нуждается в каких-либо ее ограничениях". Так демократический принцип народного суверенитета в построениях Гамильтона обращался против самой демократии.
Та же логика используется Гамильтоном в отношении федеральной судебной власти: он развил обоснование необходимости судебного конституционного контроля, на основании чего Верховный суд впоследствии получил право определения конституционности тех или иных законодательных актов. Поскольку конституция есть "высочайший закон, воплощающий волю народа", все законодательные акты, противоречащие ей, должны быть признаны "недействительными как несоответствующие конституции".
Эту функцию призваны осуществлять суды, коим "принадлежит специфическое право интерпретации законов". Сама конституция по этому поводу безмолвствовала, и только подобная трактовка позволяла в полной мере использовать пожизненно избираемый и заведомо консервативный Верховный суд как еще одну мощную преграду на пути народного волеизъявления, даже пропущенного через законодательный орган. Гамильтон, естественно, отрицал, что в таком случае Верховный суд в известном смысле ставится над конгрессом, но то была чистая софистика: "Имеется в виду только то, что власть народа превыше полномочий обоих этих органов. Так что в тех случаях, когда воля законодательной власти, выраженная в ее актах, противоречит воле народа, отраженной в конституции, судьи должны руководствоваться последней". Не зря в США эта казуистика уважительно именуется "самым уникальным вкладом американского политического гения в науку о государстве". В этом вопросе Гамильтон зашел дальше Мэдисона и большинства федералистов, не говоря уже об их противниках.
И опасения последних полностью подтвердились историей: право пересмотра законов Верховным судом, закрепленное за ним при председателе Верховного суда Джоне Маршалле, развившем аргументацию Гамильтона, на протяжении многих десятилетий служило одним из самых действенных легальных инструментов борьбы с демократией в руках правящего класса США.
Существовала и еще одна особенность гамильтоновского "Федералиста". Если Мэдисон тщательно разбирал саму предлагаемую структуру государства, доказывая ее соответствие республиканским принципам, то Гамильтона даже здесь интересует не столько сама конституционная форма, сколько то реальное содержание государственной политики, которое можно выжать из этой формы. Он ясно говорит об этом в шестьдесят восьмом выпуске: "Пусть мы не можем согласиться с политической ересью поэта, сказавшего:
О формах государства глупцы пусть рассуждают - То будет лучше, что лучше управляет.
И все же можно с уверенностью заявить, что подлинное испытание государства заключается в его способности произвести хорошее правление". Конституция для него была только шансом, примерным мандатом на постройку государственного здания, "наилучшим вариантом, который позволяют нынешняя обстановка и настроения в стране", как писал он в заключительном номере "Федералиста".
Большое место в "Федералисте" Гамильтон уделил и внешней политике - с целью обосновать необходимость сильного государства для обеспечения внешнеполитических интересов США. Здесь он выступает убежденным приверженцем школы "силовой политики", достигшей к тому времени расцвета во внешнеполитической мысли и практике абсолютистской Европы, в которой полоса религиозных войн осталась позади, а пора разрушительных буржуазно-националистических конфликтов еще не наступила. Шел "золотой век" классической дипломатии с ее убежденностью в непреходящем соперничестве между государствами, коренящемся в стремлении каждого из них к расширению своих границ и влияния, в постоянстве их интересов относительности союзов между ними, с ее упором на силу как главный инструмент политики. Дипломаты классической школы стремились к постижению подлинных государственных интересов и проведению рациональной политики "баланса сил", основанной на правильном понимании этих интересов.
Следуя постулатам этой школы, разработанным такими европейскими теоретиками, как С. Пуффендорф, Э. де Ваттель, лорд Болингброк и др., Гамильтон исходит из реальностей мира с его "неисчислимыми источниками враждебности между государствами: жаждой власти и ревностным отношением к власти других, стремлением к господству и преобладанию, торговыми противоречиями, личными мотивами" и т. д. Он обрушивается на получившие хождение и в Америке идеалистические теории в духе идей Просвещения о близости вечного мира, когда торговля свяжет страны прочными узами, а солидарность республик придет на смену вражде монархий. "Что до сих пор изменила торговля, кроме целей войны? - вопрошает "Публий". - Разве республики на практике оказались менее подвержены войнам, чем монархии?" Войны и иные формы соперничества государств, учит Гамильтон, так же извечны, как сама несовершенная человеческая природа по обе стороны Атлантики. Посему "не пора ли пробудиться от призрачных грез о "золотом веке" и взять за практическое правило при определении нашего политического поведения то, что мы, как и другие жители земного шара, еще очень далеки от счастливого царства абсолютной мудрости и совершенной добродетели?"
Соединенным Штатам, несмотря на все преимущества своего положения, не уйти от борьбы с другими странами по суровым законам "силовой политики", продолжает Гамильтон. Европейские морские и торговые державы уже сейчас ревностно относятся к американской конкуренции, а те из них, которые обладают колониями в Америке, " с болью и тревогой предвидят, во что способна превратиться эта страна" и "чем грозит такое соседство их владениям". "Атлантический щит" - еще не гарантия безнаказанности и абсолютной безопасности Америки: "Усовершенствования в искусстве навигации в том, что касается скорости сообщения, по существу, превратили далекие страны в соседей... Это должно предостеречь нас от самонадеянной уверенности в том, что мы находимся совершенно вне опасности".
В окружении могущественных соперников, выводил Гамильтон, Америке прежде всего необходимо сильное централизованное государство - как для проведения энергичной внешней политики, учитывающей все интересы государства ("единство торговых и политических интересов может проистекать только от единства правления"), так и для создания крепкого "внутреннего тыла", ибо в противном случае "девизом любой страны, опасающейся или ненавидящей нас, будет: "Разделяй и властвуй".
Только такому государству под силу создание мощной военной машины - важнейшее условие проведения "силовой политики". Оправдывая необходимость наделения государства правом создания регулярной армии, Гамильтон подчеркивает, что ставка на милицию "едва не стоила нам независимости... Планомерное ведение военных действий против регулярной и дисциплинированной армии может успешно осуществляться только аналогичными силами... Война, как и многое другое, - наука, обретаемая и совершенствуемая упорством, усердием, временем и опытом".
Особое значение для США имеет военно-морской флот, способный не только оградить интересы американской торговли, но и стать "ощутимой величиной на весах соперничающих держав", обеспечив тем самым Соединенным Штатам выгодную позицию "государства-балансира", "решающего довеска", определяющего по своему усмотрению соотношение сил двух других государств, враждующих в этом районе (например, Англии и Франции в борьбе за Вест - Индию). В итоге, отмечает Гамильтон, "мы сможем назначать хорошую цену не только за нашу дружбу, но и за наш нейтралитет. Твердо следуя целям союза, мы можем надеяться уже в недалеком будущем стать арбитром Европы в Америке, способным склонять чашу весов европейского соперничества в этой части света, согласно требованиям нашего собственного интереса".
Уже здесь Гамильтон показывает себя знатоком политики "баланса сил", умело применяющим ее принципы к американским условиям. Образцом в этом для него служила Англия, которая начиная с XVII века играла роль балансира на европейском континенте в соперничестве между Бурбонами и Габсбургами. Но его стратегическое видение не ограничивается и этой заманчивой перспективой. Отвлекаясь от своей непосредственной задачи, он вдохновенно рисует дальнейший путь Америки как мировой державы. Реалистически оценивая скромные тогдашние возможности США на мировой арене, Гамильтон исходит из того, что им еще долго будет явно не под силу влиять на европейскую политику "баланса сил". Вместо этого, оставаясь в стороне от европейских дел и используя преимущества своего географического положения, США должны наращивать силы для утверждения своей гегемонии в Западном полушарии: "Наше положение позволяет, а наши интересы заставляют стремиться к господству в системе американских дел".

Заседание конституционного съезда под председательством Вашингтона
Но это еще не предел. Америка наряду с Европой, Азией и Африкой - только одна из четырех "политических и географических частей", на которые Гамильтон делит мир в одиннадцатом выпуске "Федералиста". При существующем соотношении сил между ними Европа "своим оружием и дипломатией, силой и обманом добилась превосходства" над остальными. Историческая миссия США - "спасти честь человечества", а говоря конкретно - сменить Европу в роли мирового гегемона: "Пусть тринадцать штатов, соединенные в тесный и нерушимый союз, воздвигнут единую великую американскую систему, неподвластную контролю заокеанских сил и влияний, способную диктовать свои условия в отношениях Нового и Старого Света!".

Американский орел не дает Джефферсону принести конституцию США в жертву на 'алтарь французского деспотизма' (федералистская карикатура)
Итак, от положения "игрушки" в руках "сильных мира сего" через позицию "арбитра" европейского соперничества в Америке к господству в Западном полушарии, а затем и во всем мире. В этих писаниях "Публия" Гамильтона, как в генетическом коде, заложена вся программа будущей глобальной экспансии США, провозглашенная от имени едва появившегося на свет государства.
Невозможно, конечно, точно определить воздействие "Федералиста" на ход борьбы за принятие конституции, но, несомненно, эта серия статей нанесла массированный и чувствительный удар по антифедералистам, чье интеллектуальное оружие уступало теоретической оснащенности "Публия", за которым скрывались лучшие умы континентальной элиты. Она оценила "Федералиста" по достоинству. Вашингтон, например, - один из немногих, кому Гамильтон сразу же открыл состав триумвирата, писал ему: "Сей труд доставил мне величайшее удовлетворение.., он заслужит внимания потомков". Сам Гамильтон, видимо, расценивал свое принесшее ему посмертную славу творение не столь высоко, если уже в 1802 году планировал переписать его заново, высказаться откровенно, с тем чтобы "угостить людей не овсянкой, как раньше, а настоящим мясом". Ну а пока как человек, всегда ставящий перед собой практические задачи, он со всей энергией отдался дальнейшей борьбе за принятие конституции.

Парад в Нью-Йорке по случаю принятия конституции
К июню 1788 года восемь штатов из требуемых для ее принятия девяти уже ратифицировали конституцию, но судьба ее оставалась нерешенной до тех пор, пока хотя бы один из двух крупнейших штатов - Нью-Йорк и Вирджиния - не дал своего согласия. В них и разгорелась самая острая борьба. Демиурги "Федералиста" Гамильтон и Мэдисон возглавили ряды федералистов в своих штатах. Поскольку ратификационный съезд в Вирджинии начинался раньше нью-йоркского, то ее положительное решение могло подтолкнуть и Нью - Йорк, на что, собственно, и надеялся Гамильтон, установивший с Мэдисоном курьерскую связь через полстраны. При этом он, не уповая полностью на других, сам развил лихорадочную активность на нью-йоркском съезде, заседавшем с 17 июня по 26 июля.
Первоначально две трети делегатов шли за антифедералистами. Гамильтон начал словесный поединок с их главным оратором - Меланктоном Смитом, одновременно направляя закулисную обработку делегатов. Смит в резкой форме оспаривал пункт за пунктом, особенно нажимая на сословную спесь противников. "Возможно, - говорил он, - мы были слишком осторожны и чересчур ограничивали власть центрального правительства. Но нам предлагают удариться в другую, более опасную крайность: устранить все барьеры, предоставить государству свободный доступ к нашим карманам, право распоряжаться судьбами людей - и все это без учета настроений народа и обеспечения его представительства... Люди, которые сейчас кричат о необходимости энергичного правления, пойдут дальше, - предостерегал Смит, поглядывая на чопорного, как всегда, подтянутого Гамильтона и его окружение, Скайлера, Джея, Дюана и др., - ряды их растут; они обладают влиянием, талантами и предприимчивостью. Нужно остановить их, пока не поздно".
Гамильтон призывал на помощь все свое красноречие, иногда не брезгуя даже не свойственной ему обычно демагогией. "Почему так часто твердят об аристократии..? - притворно удивлялся он. - Где аристократия среди нас? Где вы найдете людей, навечно поставленных над своими согражданами и обладающих независимой от них властью?" В особо ответственных случаях Гамильтон бил наотмашь, пользуясь риторическими приемами для добивания противника: "Предлагаемая государственная структура так сложна, так искусно построена, что практически исключает возможность успешного прохождения неполитичных или злонамеренных мер. Чего же хотят джентльмены, которые выступают против такого государства? Почему они требуют, чтобы мы ограничили его власть, его возможности, подорвали его способность осчастливить народ?" "...Когда вы создали систему, совершенную настолько, насколько может быть совершенно творение человека, вы должны довериться, вы должны предоставить власть!" - таков был заключительный аккорд его выступления на съезде. Отчаянные усилия Гамильтона и его сторонников, а также последовавшая вскоре ратификация конституции Вирджинией склонили чашу весов в пользу федералистов: 30 против 27. Решение Нью-Йорка означало окончательную победу конституции. Гамильтон по праву был увенчан всеми лаврами победителя.
На городском параде федералистов торжественно несли его огромный портрет с текстом конституции в правой руке. Конституция изображалась как символ единства союза и процветания: булочники волокли "федеральную" буханку в четыре метра длиной, пивовары - огромную бочку эля с кудрявым малышом наверху в роли Бахуса; за плугом, запряженным шестью быками, шествовал сияющий Николас Крюгер - первый патрон Гамильтона, одетый простым фермером. Яркая процессия окружала большой макет судна "Александр Гамильтон", олицетворявшего корабль американской новорожденной государственности. Он готовился к отплытию. Власть была завоевана - оставалось употребить ее.
|
ПОИСК:
|
© USA-HISTORY.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'