
Глава четвертая. СХВАТКА У РУЛЯ
Бывают люди, которые на всех парусах несутся по ветру монаршей милости; они мгновенно теряют из виду землю и мчатся вперед; все им улыбается, все удается; за каждый шаг, за каждый поступок их осыпают похвалами и наградами... Но в стороне возвышается утес, о подножие которого разбивается любая, самая мощная волна; влияние, богатство, угрозы, лесть, власть, милость - ничто не может его поколебать. Имя ему - народное мнение; наталкиваясь на него, эти люди идут ко дну.
То, что республиканцы в конце концов взяли верх в 1800 году, неудивительно. Поражает другое - как могла небольшая узкая группа капиталистов так долго удерживать бразды правления в преимущественно аграрной стране.
Война, с 1792 года погрузившая Европу в кровавую бездну, стала благословением для американской экономики. Истинным экономическим содержанием американского нейтралитета была торговля продовольствием. Как и предвидел Джефферсон, Европа воевала, а Америка кормила, и такое разделение обязанностей вполне устраивало американцев любых политических взглядов. Они следовали отеческому совету Джона Адамса - набивать свои карманы, философски наблюдая за тем, как европейцы перегрызают друг другу глотки. Но и на этом "славном" пути были свои тернии.
Гарантией высоких прибылей нейтральной торговли был принцип "свободное судно - свободный груз", который обеспечивал неприкосновенность любых товаров на борту нейтральных судов. Следуя ему, американцы с начала войны резко увеличили фрахтовую торговлю между Францией и французской Вест - Индией. Что касается "владычицы морей", то она никогда не признавала этого принципа, поскольку он лишал ее возможности извлекать преимущества из своего господства на море. Она придерживалась древнего пиратского правила, в соответствии с которым все вражеские товары, независимо от флага торговца, подлежали захвату. В новой войне, потребовавшей напряжения всех ее сил, Англия не собиралась отказываться от своей исконной тактики и допускать, чтобы ее смертельный враг снабжался из-за океана.
В июне 1793 года королевский флот получил приказ захватывать все французские товары на американских судах, курсирующих между Францией и ее колониями. В Америке предвидели возможность такого разворота событий и восприняли его как должное, но англичане пошли еще дальше. Вместе с Россией, Испанией и Пруссией они объявили блокаду Франции. Зерно и другие виды продовольствия, направляемые туда, подлежали конфискации, правда, с последующей выплатой компенсаций. Даже Гамильтон в беседе с Хаммондом протестовал против этой "чрезвычайно суровой и беспрецедентной меры". Однако англичане не остановились и на этом. 6 ноября 1793 г. король приказал перехватывать все американские суда на торговых путях, связывающих Францию с ее колониями, и отправлять их в Англию - для судебного разбирательства.
Этот крайний шаг был вызван продовольственным бумом во французской Вест - Индии. Ее жемчужину - остров Сан - Доминго охватило пламя небывалого по размаху восстания рабов, и перепуганные плантаторы спешили избавиться от всех наличных запасов продовольствия. Американские торговцы вовсю использовали этот бум, покупая зерно по дешевке и перевозя его во Францию как свой, то есть нейтральный, товар. Чтобы добычи набралось побольше, указ Георга III был объявлен лишь в конце декабря, когда английский флот уже успел захватить около 250 американских судов. Половина из них подверглась конфискации, а часть матросов - насильственной вербовке. Почти одновременно с этим пришло известие о подстрекательской речи губернатора Канады Дорчестера перед вождями индейских племен. Он намекнул на возможность скорой войны с американцами и тогда - "пусть границу проведут воины".
Столь тяжелый удар одновременно по карману и самолюбию американцев мгновенно вызвал взрыв англофобии в стране. Даже закоренелые федералисты сжимали кулаки. "Если Джон Булль из дурацкого упрямства и гордости будет стоять на своем, отказывая в возмещении, то думаю, что разразится война", - сокрушался Эймс. Бесцеремонность Англии грозила сорвать гамильтоновскую политику умиротворения.
Если таковы были настроения федералистов, то что же говорить об остальных? Для них все было ясно: Англия ведет дело к войне. Традиционные меры республиканцев - повышение пошлин на английские товары и т. п., вновь предложенные Джефферсоном в его прощальном докладе в декабре 1793 года и Мэдисоном в конгрессе, казались теперь охваченным воинственным пылом южанам просто шуточными. "Передайте от нас Джону Буллю, - наказывали конгрессменам жители графства Галифакс (Северная Каролина), - что, если он не отречется от своей бесчестной системы угнетения, грабежа, интриг, низкого коварства и вероломства.., мы будем преследовать его со всей мстительностью и неистовым маршем гнать от озера к озеру, ровняя с землей форт за фортом".
В марте конгресс наложил месячное эмбарго на всю иностранную (преимущественно английскую) торговлю. Уже обсуждался и вот-вот мог пройти законопроект о секвестре всех частных долгов британских подданных. Федералисты противились этим мерам, тем самым укрепляя свою репутацию пособников англичан. Самый ярый обличитель федералистов в конгрессе Джайлз, выступая за полное прекращение торговли с Англией, прямо указывал на причины их осторожности. "Говорят, что прекращение торговли уменьшит поступления в казну. Но разве так рассуждала Америка во времена Декларации независимости? Откуда эта перемена в настроениях? Корень зла, - продолжал Джайлз, - в финансовой системе страны, обрекающей ее на зависимость от Англии".
Военная горячка охватила страну, в первую очередь южные и центральные штаты. Там маршировали добровольцы, бурлили митинги и демонстрации, патриоты "угощали" дегтем и перьями проанглийски настроенных торговцев. Шквал антибританских настроений увлекал за собой и федералистов, которые нашли спасительную тактику - переговоры с Англией при наращивании военной мощи на случай их провала. "Наш долг ясен, - писал оракул федералистов Эймс. - Мир! Мир! До последнего дня, пока его можно сохранить. А война, когда она придет, будет свалена на наших фракционеров как дело их рук".
В те критические дни балансирования на грани войны Гамильтон делал все возможное, чтобы предупредить или хотя бы отсрочить роковое столкновение с Англией. Он взывает к благоразумию англичан через Хаммонда, с огромным трудом тормозит принятие новых антианглийских мер в конгрессе, а главное - сдерживает Вашингтона, не уставая повторять ему, что война с Англией - это катастрофа. Силы слишком неравны: Великобритания и "народ, только что ставший государством, вчерашняя колония - если и Геркулес, то Геркулес в колыбели... Мы забываем, - увещевал он, - как мало можем ущемить сами и как сильно могут ущемить нас".
Это были весомые аргументы, особенно для главнокомандующего, знавшего цену войне и воинственности политиканов. 8 марта Гамильтон в специальном меморандуме президенту изложил программу преодоления кризиса из трех главных пунктов: укрепление портов, дополнительный набор в армию 20 тысяч человек и отправка в Лондон посла для переговоров. Через день состоялось секретное совещание федералистских лидеров конгресса. Присутствовавшие на нем сенаторы О. Эллсворт, Дж. Кэбот, К. Стронг, Р. Кинг поддержали предложения Гамильтона и направили к президенту своего эмиссара. Седовласый Эллсворт передал Вашингтону единодушное мнение своих коллег: в Лондон должен отправиться Гамильтон, "чьи качества дают ему абсолютное преимущество перед остальными". Но он "не пользуется общим доверием страны", - засомневался президент. Да и к самой идее переговоров он склонился лишь в конце марта, когда стало известно об отмене ненавистного ноябрьского указа Георга III, но слух о возможном назначении Гамильтона уже распространился, всколыхнув республиканцев.
Саму затею они принимали только как проведение переговоров "с позиции силы", требуя предварительно "показать зубы" англичанам - провести через конгресс законы о полном прекращении торговых отношений с Англией и секвестре английских долгов. "Мы уже столько от них стерпели, - сетовал Джефферсон, - что неминуемо обречем себя на оскорбления и в будущем, если только не станем вести себя сейчас очень смело". С уходом в долгожданную отставку в начале года его воинственность явно возрастала. А тут еще кандидатура Гамильтона - "ничего более оскорбительного нельзя было предложить". Он готов даже поверить сплетням о том, что Гамильтон запросит политического убежища в Великобритании ("в Америке становится для него слишком жарко"), - неудивительно, дает волю своему сарказму Джефферсон, если он там получит хорошую пенсию, как и предатель Арнольд.
Тем не менее республиканцы не спешили воспользоваться столь легким способом избавления от своего главного врага. На Вашингтона обрушился град писем, умоляющих не дать Гамильтону "продать родину Джону Буллю". Как ни хотелось казначею сесть за стол переговоров с Питтом и самому привезти желанный мирный договор, в этих условиях он вынужден был отказаться от назначения в пользу верховного судьи Джея. Президент одобрил эту кандидатуру, и 19 апреля сенат после ожесточенной перепалки утвердил назначение.
Решение начать переговоры предотвратило принятие жестких антианглийских мер, федералисты в последний момент отвели топор республиканцев и взяли дело урегулирования в свои руки. "Более дерзкого партийного маневра еще не было, - писал позже Джефферсон, - ибо это действительно попытка партии, обнаружившей утрату большинства в одной палате, принять с помощью исполнительной власти и другой палаты закон, который авторитетом договора свяжет руки враждебному органу (палате представителей. - В. П.) в его стремлении ограничить торговлю государства-патрона".
В официальных инструкциях государственного секретаря Рэндольфа перед Джеем ставились следующие задачи: заключить торговый договор на условиях неограниченного допуска американских судов в Британскую Вест-Индию, признания принципа "свободное судно - свободный груз" и исключения продовольствия из числа контрабандных товаров; добиться полного подтверждения условий мирного договора 1783 года, касающихся фортов на северо-западной границе, возвращения беглых рабов или компенсации за них, а также возмещения ущерба, причиненного американской торговле королевским указом от 6 ноября 1793 г. Другой набор рекомендаций составили Гамильтон, Кинг, Кэбот и Эллсворт. Они были готовы признать тоннажные ограничения на американские суда, допускаемые в Вест - Индию, а также пожертвовать правилом о "свободных судах". В них многозначительно отсутствовал пункт о возвращении беглых рабов, а в качестве запасной уступки англичанам резервировался отказ от повышения пошлин на английские суда и товары. Это были явно партийные рекомендации.
После отъезда Джея за океан в политической жизни наступило относительное затишье. Конгресс придерживается твердого нейтралитета, писал Гамильтон вдогонку Джею, Франция последовала примеру Англии и стала перехватывать американские суда, направляющиеся к английским берегам, что несколько успокоило антибританские страсти.
В июне Гамильтона ждал еще один успех. Специальный комитет палаты представителей по его собственному настоянию провел тщательную проверку казначейства и был вынужден полностью реабилитировать всесведущего казначея. Однако он не собирался почивать на лаврах - было ясно, что исход партийной борьбы решится не здесь. "Если миссия Джея окажется успешной, - выражал общие надежды федералистов Эймс в письме Гамильтону, - боюсь, наши милые демократы утратят слишком много влияния, чтобы быть надежными защитниками от "поползновений аристократии". Гамильтон откладывает свою отставку из-за "событий последнего времени, которые сделали перспективу мира очень проблематичной", как он объясняет Вашингтону. Урегулирование отношений с Англией было слишком важным делом, чтобы бросить его на полпути и даже чтобы полностью передоверить многоопытному Джею.
Следить за ходом самих переговоров и быстро реагировать на изменения в обстановке не представлялось возможным уже в силу самого расстояния - вести из Европы шли в среднем около месяца. Однако у Гамильтона была прямая связь с Гренвиллем через Хаммонда, и он мог использовать ее для блокирования возможных опрометчивых, на его взгляд, шагов Джея. Одним из них могла стать попытка припугнуть Англию присоединением США к странам так называемого второго "вооруженного нейтралитета" - Швеции и Дании, которые планировали создать лигу для вооруженной защиты нейтральной торговли от разбойничьих рейдов английского флота. Угроза присоединения США к этой лиге в действительности была фиктивной, так как правительство Вашингтона уже отвергло эту идею в принципе. Но она вполне могла служить средством дипломатического шантажа в переговорах с Англией, что и предусматривалось инструкциями Рэндольфа - в случае крайней необходимости.
Дабы не "спугнуть" Англию, Гамильтон решил выбить этот козырь из рук Джея. В начале июля он заверил Хаммонда, что Америка не присоединится к странам "вооруженного нейтралитета", ибо это "противоречит ее подлинным интересам". Хаммонд правильно истолковал слова генерального казначея как достоверное выражение истинных намерений кабинета и незамедлительно сигнализировал в Лондон. В итоге Гамильтон, как выразился К. Бауэре, "стоя за Джеем, держал зеркало, в котором отражались карты американской стороны для обозрения обходительного и улыбающегося Гренвилля". Этот поразительный, граничащий с изменой ход Гамильтона служит первым пунктом обвинения в пособничестве Англии, справедливо предъявленного ему историками. Вопрос состоит лишь в определении размеров ущерба.
Американские историки, начиная с профессора С. Бемиса, в 20-х годах нашего столетия впервые осветившего эти события, традиционно считали, что действия Гамильтона резко подорвали позиции Джея на переговорах и тем самым значительно усугубили унизительный характер заключенного договора. Скрупулезные и фундаментальные исследования последнего времени показали, что "неосмотрительность" Гамильтона имела более скромный эффект. Сама угроза присоединения Соединенных Штатов к странам "вооруженного нейтралитета" не была для англичан столь значительной, чтобы заставить их пойти на серьезные уступки. Создатель первого "вооруженного нейтралитета" - Россия стала к тому времени союзницей Англии, а без нее военно-морская мощь Швеции и Дании, даже при поддержке США, не имевших тогда военного флота, не могла обеспечить целей "вооруженного нейтралитета", и это отлично понимали в Лондоне. Гренвилль имел на переговорах слишком прочные позиции, чтобы дрогнуть под угрозами Джея, к которым последний, кстати, и не стремился прибегать. Это объяснялось не только военно-экономическим превосходством Великобритании, но и тем, что правительство Питта слишком хорошо сознавало как степень торгово-экономической зависимости Соединенных Штатов от Англии, так и решающее воздействие этой зависимости на политику федералистов. Пока власть в заокеанской республике принадлежала этой партии во главе с осмотрительным реалистом Вашингтоном и энтузиастом англо-американского сближения Гамильтоном, Лондону - при условии что он воздержится от крайностей - опасаться было нечего.
Поэтому исход переговоров был предопределен. Нет ничего удивительного в том, что Джей не добился выполнения даже федералистской программы, хотя подошел к этому довольно близко. Англичане согласились в течение двух лет эвакуировать свои форты на северо-западной границе, создать смешанные арбитражные комиссии для рассмотрения вопроса об ущербе, нанесенном американской торговле, и открыть свою Вест-Индию для американских судов водоизмещением не выше 70 т. А главное - была ликвидирована непосредственная угроза войны.
Но за это Джею пришлось заплатить унизительно высокую цену: запрет на секвестр английского долга, 12-летний мораторий на повышение таможенных пошлин на английские суда и товары, отказ от компенсации за беглых рабов, запрет на экспорт американского сахара, хлопка, кофе, какао и патоки в Вест-Индию, отказ от принципа "свободное судно - свободный груз", сохранение частных земельных владений англичан в Северной и Южной Каролине, туманное определение контрабанды, которое при желании можно было распространить и на продовольственные товары.
Нетрудно заметить, что эти условия ущемляли в первую очередь интересы плантаторов и отношений с Францией и лишь во вторую - торгово-промышленной буржуазии. "Договор Джея" был заключен между Англией и федералистской буржуазией США за счет Франции и аграриев-республиканцев. Это обещало ему дурную славу и трудную судьбу.
Англо-американские переговоры находились еще в самом разгаре, когда в Западной Пенсильвании разразился так называемый "бунт из-за виски", вызванный налогом на спиртные напитки и винокурни. Стихийно образовавшиеся отряды терроризировали и изгоняли сборщиков налогов, жгли дома законопослушных земляков и налоговые списки, а в конце июля взяли штурмом усадьбу главного окружного инспектора. Это был настоящий бой - с жертвами с обеих сторон. 1 августа сообщение о происшедшем достигло Филадельфии.
Гамильтон отреагировал мгновенно. Мало того, что налог на виски был самым доходным из всех внутренних налогов, бунт представлялся ему порождением "общего духа беспорядка", как он писал Генри Ли, посеянного республиканской оппозицией. К тому же это было первое серьезное антиправительственное выступление со времени принятия новой конституции. Поэтому Гамильтон расценил его как решающее испытание молодого государства: подавление бунта надлежало превратить в убедительную демонстрацию всесокрушающей государственной мощи. Речь идет о том, "сможет ли государство отстоять себя", говорил он президенту, настаивая на немедленном использовании военной силы.
Вашингтон не нуждался в уговорах - восстание Шейса было слишком свежо в памяти. Он оценил происшедшее как "удар по основам закона и порядка" и объявил о своей решимости "пойти так далеко, как только позволяют конституция и законы". Самое большее, что позволяла в таких случаях конституция, - это созыв ополчения соседних штатов. В отсутствие Нокса, отлучившегося для присмотра за своими землями, Гамильтон с согласия Вашингтона взял на себя обязанности военного министра и с энтузиазмом принялся готовить карательную экспедицию.
Как всегда в критические моменты, из-под его пера вперемежку с циркулярами и ведомостями вылетают полемические статьи, на сей раз - под подписью "Туллий". Псевдоним должен был напоминать о борьбе Цицерона против заговора Катилины. Доводы "Туллия" просты: налог на виски отождествляется с законами и конституцией, конституция - со священной волей народа, а сопротивление налогам соответственно - с подрывом прав большинства. Вопрос, оказывается, сводится к тому, "будет ли править большинство". Пользуясь случаем, Гамильтон растолковывает соотечественникам смысл республиканской добродетели, заключающийся в законопослушании. "Большая и хорошо организованная республика вряд ли может утратить свою свободу иначе как по причине анархии, к которой ведет неуважение к законам". "Государство, - демонстрирует "Туллий" железный кулак буржуазного правопорядка, - подразумевает контроль закона или силы. Если закон разрушается, его заменяет сила".
В конце октября 12 тысяч "стражей законности" (из расчета по два на каждого исчисленного бунтовщика) во главе с Вашингтоном и Гамильтоном выступили в западную Пенсильванию, дабы сокрушить "гидру анархии", как выразился генеральный казначей. Объединенный отряд ополчения состоял преимущественно из зажиточных филадельфийцев, а также жителей Нью - Джерси и Вирджинии, среди которых были и республиканцы. "Виски бойз" поначалу были настроены решительно: "Мужчины, взращенные на виски, уничтожат армию водохлебов". Однако при виде столь превосходящей силы неприятеля фермеры мгновенно рассеялись. "О мятяже кричали, против него вооружались, но нигде не смогли обнаружить", - насмешничал Джефферсон в письме Монро. Перед друзьями он не скрывал своего сочувствия пенсильванцам, называл налог на виски "бесчеловечным", а действия мятежников просто "небольшим буйством".
Не встретив и следа сопротивления, Гамильтон и сменивший Вашингтона губернатор Вирджинии Г. Ли погнали свой отряд через Аллеганские горы, чтобы водрузить знамя победы в самом сердце мятежного Запада. Гамильтон лично руководил допросами пленных, но все его рвение оказалось напрасным: главные зачинщики сумели скрыться, "преступную" связь видных республиканцев с мятежниками доказать не удалось. Из пойманной "мелочи (числом 150 человек. - В. П) лишь двое бедных негодяев, - писал Гамильтон, - были осуждены на смерть: один - почти идиот, другой - жалкий попутчик в деле мятежа". Вашингтон помиловал обоих, на том великий поход и кончился.
Генеральному казначею положительно не везло с военной славой. Республиканская пресса открыто высмеивала незадачливого полководца и "крестовый поход кредиторов, спекулянтов и банковских директоров" против бедняков. Гамильтон молча сносил оскорбления ("Давно уже я научился ни в грош не ставить "общественное мнение", - писал он Вашингтону), оставив за собой решающий ход. Ему удалось убедить президента и даже Рэндольфа в том, что бунт развязали демократические республиканские общества Пенсильвании.
Вашингтон уже со времен Женэ относился неприязненно к этим франкофильствуюшим организациям, и последние беспорядки переполнили чашу его терпения. В ноябрьском послании конгрессу он описал возникновение и подавление бунта, связав его с деятельностью "антигосударственных самочинных обществ". Цель Гамильтона была достигнута. Проклятие президента рикошетом ударяло по республиканской оппозиции в целом, к которой эти общества примыкали с левого фланга. Для республиканцев направление удара было очевидным. "Расчет делался на то, - говорил Мэдисон, - чтобы связать демократические общества с отвращением к бунту, республиканцев в конгрессе с самими обществами, а президента выставить напоказ как главу враждебной им партии". Продолжая свято верить в то, что он выше всех партийных распрей, Вашингтон на деле все теснее сближался с федералистами.
Демарш президента заставил Джефферсона на время забыть о хозяйственных делах. "Осуждение демократических обществ, - писал он Мэдисону, - один из чрезвычайных актов наглости фракции монократов, которые мы наблюдаем в таком множестве. Остается удивляться, как президент мог позволить себе стать инструментом такого наступления на свободу дискуссий, слова и печати". Именно с этого момента он начинает всерьез сомневаться в мудрой беспристрастности Вашингтона.
Новые козни "монократов" растравляли старые обиды, которые тяжким грузом разрушенных надежд осели в душе Джефферсона. Страну по-прежнему вели не в том направлении. "Я напрасно искал оправдания вооружению одной части общества против другой, объявлению гражданской войны, долготерпению перед пинками и издевательствами наших врагов и выступлению из-за пустяков против наших друзей; оправдания увеличению государственного долга на миллионы и т. д. и т. п..." Отшельник Монтичелло ничего не забыл, но, скорбя о том, до чего довели страну федералисты, отнюдь не рвался в бой - "свою отставку я не променяю на все блага вселенной". Он надеется на изменение соотношения сил в конгрессе, на скорый уход со сцены Гамильтона и подспудно наводит Мэдисона на мысль о "более величественном и действенном посте" для него - президентском.
Что же касается Гамильтона, то для него год заканчивался неплохо. От Джея пришло сообщение о благополучном завершении переговоров, в стране установился порядок, оппозиция приумолкла. Однако пять лет государственной службы оставили его с "чистыми и пустыми руками", как острил Эймс, предельно измотанным и обремененным все растущей семьей. Особенно тяготило затянувшееся безденежье. Этого никак не мог понять Талейран, сблизившийся с Гамильтоном за время своей двухлетней эмиграции в Америке. Часто видя поздней ночью свет в кабинете Гамильтона, он задавался вопросом: как может этот человек, которого он ставил потом вровень с Наполеоном, сидя на миллионах, сам оставаться в стесненных обстоятельствах?
Когда создавалась американская республика, подразумевалось, что управлять ею будут люди обеспеченные, привлекаемые на службу отечеству, подобно древним римлянам, не жаждой обогащения, а чувством общественного долга. Однако вскоре богатых энтузиастов поубавилось, а прочие явно не могли удовлетвориться тем, что имели. Рэндольф, например, человек среднего достатка, за годы службы наделал долгов на 50 тысяч, которые его потомки выплачивали почти 100 лет. Трехтысячного жалования Гамильтона не хватало даже на светские расходы, и ему грозила судьба Рэндольфа. Выбора уже не оставалось, нужна была по крайней мере передышка - и обстановка тому благоприятствовала. "Пусть моя отставка вас не тревожит, - писал Гамильтон свояченице Анжелике Чёрч, с которой, как уверяли злые языки, его связывали не только родственные узы, - в обществе все в порядке. С бунтом благополучно покончено. Государство укрепило свою репутацию и мощь, а наши финансы - в самом цветущем состоянии. Внеся вклад в укрепление национальных финансов, я удаляюсь, чтобы немного заняться своими собственными, которые явно в этом нуждаются".
Оставалось только сдать дела Оливеру Уолкоту и сделать последние распоряжения. Гамильтон сочиняет прощальное послание - план выкупа государственного долга. Противники не верили своим глазам - главарь "монократов" отказывается увековечить господство кредиторов! Тем не менее они дружно высказались против его проекта, ибо он был рассчитан на 30 лет и предусматривал сохранение всех внутренних налогов до 1801 года, а налоги, разумеется, были еще менее популярны, чем государственный долг. Между тем в действиях Гамильтона не было ничего сверхъестественного. Политическая цель государственного долга как цемента союза была достигнута, государственный кредит обрел устойчивость, и теперь можно было вернуться к ортодоксальной экономической мудрости. Доклад завершался настоящим гимном "бессмертному" кредиту и наставлением беречь его, как зеницу ока.
Последний доклад Гамильтона был представлен конгрессу 16 января 1795 г., а 31 января генеральный казначей стал частным гражданином американской республики. Впереди спокойная доходная юридическая практика и маленькие радости тихой жизни, которым уже давно предавались многие друзья военных лет. Бывший адъютант Вашингтона Джеймс Макгенри пишет ему: "Я строил дома, обрабатывал поля, сажал деревья и сады, забавлялся небольшими эссе, раз в год писал стишки для удовольствия жены, время от времени обзаводился детьми и всегда чувствовал себя счастливым. Почему бы и тебе не заняться тем же?" Роберт Трауп предлагал другое - спекуляции государственными бумагами с привлечением иностранного капитала. "Ты же знаешь, что без состояния человек - ничто в этой жизни".
Ответ Гамильтона многое проясняет в его планах и настроениях. Он отказывается от предложения Траупа, но не из принципиального отвращения к спекуляции, а "потому, что на свете всегда должны быть дураки, которые жертвуют личными интересами во имя общественных, получая взамен поношения и неблагодарность; потому, что, как нашептывает мне тщеславие, я должен быть одним из этих дураков и держать себя в состоянии, наиболее пригодном для оказания услуг... Предстоящая игра может оказаться решающей. Ставкой в ней может стать не что иное, как подлинная свобода, собственность, порядок, религия и, конечно, головы. Я сделаю все возможное, чтобы защитить твою и свою... Быть может, это чрезмерная утонченность, это гордость, я знаю! Но она есть часть моего плана быть верным самому себе".
Нет, не для Гамильтона была тихая гавань семейного счастья. Даже в час удаления от дел он не мыслил себя вне политики. Слишком много вложил он в это государство, чтобы безучастно наблюдать за его дальнейшим курсом. Борьба не окончена, честолюбие не удовлетворено. Траупу все это казалось нелепым донкихотством: "Как я уже не раз говорил, вашим друзьям когда-нибудь придется схоронить вас за свой счет".
Страна между тем уже стояла на пороге новых потрясений, которые потребовали от Гамильтона предельного напряжения сил.
* * *
"Договору Джея" не везло с самого начала. Судно, на котором его текст переправлялся в Америку, перехватили французы, и предусмотрительный курьер выбросил его за борт. Копия в пути тоже задержалась и достигла Филадельфии лишь 7 марта 1795 г. - через три дня после роспуска потерявшего терпение конгресса. "...Договор должен говорить сам за себя", - писал Вашингтону Джей, оставшийся в Англии для лечения. Это его решение оказалось весьма удачным, оно сохранило Джею не только здоровье, но и, возможно, саму жизнь. Договор, действительно, говорил сам за себя - его тягостные условия превзошли худшие опасения федералистов. Гамильтон сразу же принялся спасать соглашение, хотя в разговоре с Талейраном окрестил его "отвратительным", а самого Джея - "старой бабой". Винить, впрочем, нужно было самого себя. Когда терзаемый сомнениями Вашингтон спросил его совета, он был уже во всеоружии и ответил подробным, на сорока страницах разбором договора. Гамильтон использовал всю свою изобретательность, чтобы доказать его приемлемость: серьезное возражение, в сущности, вызывает только статья 12, касающаяся запрета на экспорт, писал он, ибо никто не может запрещать Соединенным Штатам экспортировать свою собственную продукцию. В целом же важнейшее значение соглашения, подчеркивал экс - казначей, в том, что оно "закрывает основные противоречия между двумя странами.., дает нам возможность избежать, наконец, вовлечения в ужасную войну, разрушающую ныне Европу, и сохранить для себя состояние мира на значительный срок".
Вместо того чтобы вдаваться в подробности унизительных немедленных последствий договора, Гамильтон умело акцентирует тему долгосрочных выгод страны. "По здравом размышлении, величайший интерес страны во внешних сношениях - это мир. Степень торговых преимуществ, приобретаемых по тем или иным соглашениям, гораздо менее существенна. В условиях мира сама сила обстоятельств позволит нам быстро продвинуться в торговле. Война, разразись она сейчас, нанесет глубокую рану нашему росту и процветанию. Если же мы избежим войны еще 10-12 лет, то сможем встретить ее тогда с большими силами, заявить и энергично отстоять любые справедливые притязания на большие торговые преимущества, чем те, которыми обладаем сейчас". Вашингтон был "чрезвычайно удовлетворен" доводами бывшего адъютанта. При ретроспективном взгляде Гамильтон во многом оказался прав. "Договор Джея" вовсе не поработил Соединенные Штаты. Издержки "худого мира" с Лихвой компенсировались преимуществами нейтральной торговли. Общий ее объем за 1791-1800 годы увеличился на 260% и превысил 200 миллионов долларов. Экспорт вырос с 19 до 94 миллионов, причем более половины его приходилось на реэкспорт - посредническую торговлю между европейскими государствами и их колониями. Это был подлинно "золотой век" торгового мореплавания США, как назовут его потом историки. "В то время как великие торговые нации ссорились из-за мировой фрахтовой торговли, - писал американский экономист Э. Богарт, - Америка утащила кость, за которую они грызлись".
С другой стороны, резкий проанглийский крен, зафиксированный "договором Джея", неминуемо должен был обострить отношения с Францией. Угроза одной войны сменялась угрозой другой. Но все это выявилось несколько позже.
Созванный на специальную сессию сенат одобрил договор 20 голосами против 10 с оговоркой о статье 12. Сенаторы торжественно поклялись хранить обсуждение в тайне, но нашлись республиканцы, которые передали текст договора в редакции своих газет. Страна, и без того взбудораженная пугающими слухами, буквально взорвалась. Удар пришелся по самому чувствительному месту - молодому национальному самолюбию. Для широких масс договор поставил точки над "i": федералисты теперь полностью ассоциировались с раболепием перед ненавистной Англией, а республиканцы - с продолжением героической традиции освободительной борьбы.
4 июля - в день независимости - отряды кавалерии в столице разгоняли демонстрации вокруг пылающих чучел Джея. Депутация во главе с А. Далласом и судьей Т. Маккином торжественно сожгла текст договора перед домом английского посла. Дело дошло до уличных драк и поединков. Гамильтон также не остался в стороне: вызвал на дуэль Дж. Никольсона - бывшего морского офицера, члена нью-йоркского Демократического общества, который обозвал его "подстрекателем-тори". Никольсон извинился, но столкновения с "большим зверем" - народом Гамильтон не избежал. На одном из митингов в Нью - Йорке его забросали камнями, прежде чем он заговорил. Окровавленный оратор успел лишь произнести: "Если вы прибегаете к таким сокрушительным аргументам, мне остается только уйти". Кинг острил: "Они хотели вышибить вам мозги, чтобы сравняться с вами". Но Гамильтону было не до острот. Волнения настолько встревожили его, что, не полагаясь на нью-йоркское ополчение, он попросил преемника Нокса Тимоти Пикеринга отменить приказ о выступлении в поход регулярных воинских частей. Лучше гражданская война, чем война с Англией. Это и было сделано. Вспышки насилия даже играли на руку федералистам, принявшим позу защитников закона и государства. "Договор пройдет, невзирая на чернь", - упорствовал Эймс.

Празднование 4 июля в Филадельфии
Республиканцы атаковали "договор Джея" со своих принципиальных позиций. Мало того, что он по всем статьям ущемлял материальные интересы плантаторов, договор лишал республиканцев самого действенного оружия против Англии - возможности торговой дискриминации и к тому же подрывал если не букву, то дух союза с Францией.
Джефферсон, только что давший обет не читать газет, опять оказался вовлеченным в закрытую политическую дискуссию. В письмах он называл договор "союзом Англии и англоманов против конгресса и народа Соединенных Штатов", "памятником глупости или предательства". "Говорят, - выражал он мнение земляков и свое собственное, - что, пока все были заняты в трюме починкой парусов, сращиванием концов - каждый своим делом, а капитан сидел в каюте с вахтенным журналом и картой, мошенник-лоцман завел корабль во вражеский порт". В данном случае Джефферсон не имел в виду лично Гамильтона, однако, знай он все обстоятельства подготовки и заключения "договора Джея", он бы наверняка еще до профессора Бемиса заключил, что это был, по существу, "договор Гамильтона". Пока вирджинец по-прежнему воздерживался от непосредственного вовлечения в политическую борьбу, ограничиваясь приватными выражениями солидарности с делом республиканцев.
Их пресса неистовствовала, особенно выделялся голос "Катона" - Роберта Ливингстона. Гамильтон решил нанести массированный ответный удар, чтобы сразу подавить огневые точки противника. По примеру "Федералиста" он создал синдикат под названием "Камиллус" в составе Кинга, Джея и себя самого. Выбор псевдонима был, как всегда, не случаен: именно этот герой Плутарха отогнал когда-то галлов от ворот Рима. Из 38 статей "Камиллуса", вышедших с конца июля 17% года, Гамильтон написал 28, задуманных как энциклопедия внешнеполитического реализма, очищенного от эмоций и морализирующих сентенций. Здесь Гамильтон проявляет редкую изощренность и красноречие для доказательства одной простой мысли: США - еще слабая страна и потому должны жить строго по средствам, тщательно соизмеряя свои желания и возможности; роскошь эмоциональных импульсов и завышенных притязаний им пока не по карману. "Мощное государство зачастую может себе позволить риск надменно-резкого тона в сочетании с правильной политикой, но государству слабому это практически недоступно, без того чтобы не впасть в опрометчивость. Мы относимся к этому последнему разряду, хотя и являемся зародышем великой империи".
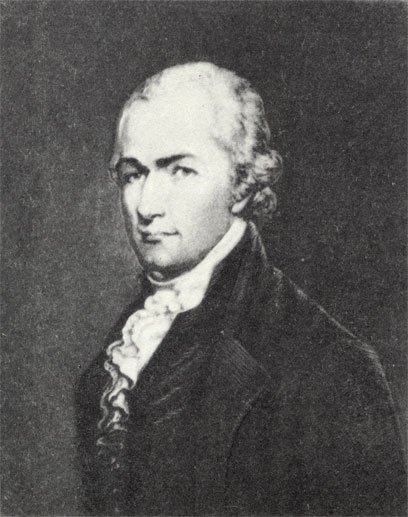
Тридцатилетний Гамильтон
Гамильтон не устает подчеркивать, что сие прискорбное состояние для США не вечно, дайте только срок - и будущая империя заговорит совсем иначе: "Через 10-20 лет мира мы сможем в наших национальных решениях взять болеее высокий и повелительный тон", а пока "надо напрягать всю нашу ловкость и осторожность, чтобы удержаться от войны как можно дольше и оттянуть до поры зрелости ту борьбу, для которой детство плохо приспособлено... Мы должны быть достаточно разумны, чтобы видеть, что сейчас неподходящее время для пробы сил".
Тем более, что и глобальный "баланс сил" складывается в пользу Великобритании; на ее стороне не только Испания и Австрия, но к другая "величайшая держава Европы - Россия, славящаяся упорством в достижении своих целей". Она может стать "огромной гирей на чаше весов" европейских войн, ибо и самой Франции, прозорливо замечает Гамильтон, "разумеется, не справиться с Россией". В заключение "Камиллус" вдохновенно воспевает компромиссы - "отдушину для национальной гордости", "мост, по которому противоборствующие страны могут отступить с честью и без кровопролития с поля соперничества".
Эти взвешенные рассуждения "Камиллуса" стали в США каноническими, но в целом здесь гораздо больше, чем в "Федералисте", ощущаются чисто партийные, конъюнктурные моменты. Сказывалось крайнее напряжение политической борьбы. Гамильтон обвиняет республиканцев в "разжигании народного недовольства" и "использовании его в своекорыстных целях"; грозит гражданской войной, которая неизбежно вспыхнет в случае войны с Англией "ввиду происков некоей партии, глубоко зараженной принципами якобинства". Он едко высмеивает жалобы республиканцев Юга на "аморальное" поведение Англии в вопросе возвращения беглых рабов - гораздо аморальнее "вернуть в рабство людей, уже получивших освобождение".
Удары "Камиллуса" сыпались с беспощадной методичностью в течение всей второй половины 1795 года. Вашингтон одобрительно кивал головой, но некоторые из федералистов сочли рвение Гамильтона чрезмерным. "Орел Юпитера держит в своих когтях молнии, но мечет их не в титанов, а по воробьям и мышам", - изрек Эймс. По достоинству оценили "Камиллуса" и противники. Находясь под свежим впечатлением от статей, Джефферсон дал самую лестную характеристику талантам своего врага, которые, впрочем, он всегда ценил высоко. "Гамильтон - это подлинный колосс антиреспубликанской партии, он один стоит целого войска,- писал он Мэдисону. - Они (федералисты. - В. П.) уже очутились в ущелье, где с ними можно покончить, но чрезмерная успокоенность республиканцев позволит его талантам и неутомимости вытащить их оттуда. С нашей стороны он встречает лишь посредственный отпор; откровенно говоря, когда он вступает на сцену, никто кроме вас не может противостоять ему. Ради бога, возьмитесь за перо и дайте фундаментальный ответ". Но Мэдисон на сей раз не стал вступать в единоборство. Недавно обретенное супружеское счастье с милой Полли Тодд совсем не располагало к столь изнуряющим баталиям.
При всех своих полемических достоинствах "Камиллус" не мог решить исход борьбы вокруг "договора Джея". Весь июль Вашингтон не решался поставить под ним свою подпись, что положило бы конец формальностям. Под влиянием Гамильтона и других видных федералистов он, наконец, склонился к подписанию, но в этот самый момент пришло известие о новом королевском указе от 25 апреля, приравнивавшем продовольствие к контрабанде и фактически запрещавшем экспорт американского продовольствия во Францию.
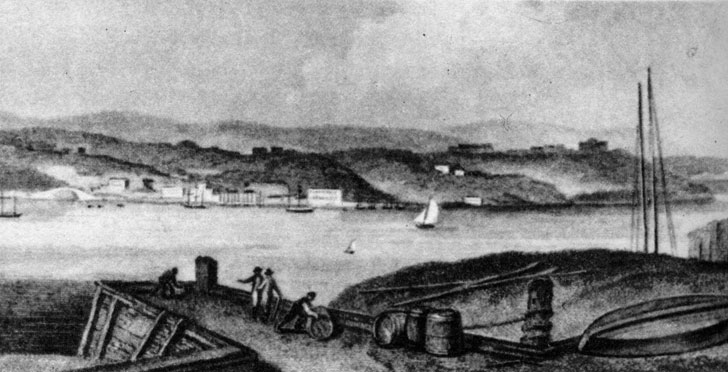
Столица США - Вашингтон (1800 г.)
Недальновидность и бесцеремонность англичан привели в отчаяние даже Гамильтона. "Английское правительство - такие же идиоты или мерзавцы, как наши якобинцы!" - взорвался он и в сердцах посоветовал Вашингтону отложить ратификацию до отмены злополучного указа. Вашингтон через Рэндольфа сообщил об этом решении Хаммонду. Тот предложил отменить указ... на время ратификации. Возмущенный цинизмом лощеного молокососа, Вашингтон отшвырнул все бумаги и 15 июля непроницаемо-мрачный скрылся в Маунт - Верноне. Федералисты подверглись пытке мучительного ожидания. "Если отсрочка завершится отказом, мы пропали, - паниковал Д. Кэбот. - Вся существующая система погибнет". Влиятельный Эллсворт предсказывал: "Если президент не решит быстро и правильно или решит неверно, счастливый жребий изменит ему". Однако энергичный преемник Гамильтона Оливер Уолкот, в отличие от прочих, не терзался, а действовал. 30 июля он сообщил Гамильтону: "Я нашел нить, которая выведет нас из любого лабиринта". Что это была за нить?
Несколькими месяцами раньше английская разведка перехватила секретное донесение французского посланника в США Д. Фосе. Из него следовало, что государственный секретарь Рэндольф не только доверял Фосе государственные секреты, но и просил денег якобы для поддержки "бунта из-за виски". В критический для судеб договора момент Хаммонд ознакомил своих доверенных лиц из партии федералистов Уолкота и Пикеринга с этим компрометирующим Рэндольфа и Францию документом. Он рассчитал верно. Министры немедленно вызвали Вашингтона из Маунт - Вернона и рассказали ему все. Президент допросил, а затем сместил Рэндольфа и 11 августа принял решение подписать договор с Англией. В конце августа он уже поручил Гамильтону, и в отставке остававшемуся его главным советником, подготовить проект послания конгрессу с обоснованием "договора Джея", а также спросил его мнение относительно будущего состава кабинета.
Историки расходятся в оценке причин этого поворота Вашингтона. Интересно, что 10 августа Гамильтон через Уолкота вновь рекомендовал президенту подписать договор, отступив от своей предыдущей позиции. Учитывая влияние Гамильтона на Вашингтона, это вполне могло быть решающим толчком, а дело Рэндольфа - лишь последней каплей.
Вашингтон вновь бросил свой еще огромный авторитет на чашу весов в пользу федералистов, но и его уже не было достаточно. Оппозиционная пресса неустанно размывала ореол "отца страны". "Праведный гнев уязвленного и оскорбленного народа не достиг глаз Святого Вашингтона", - саркастически писала газета "Аврора". Республиканцы не собирались сдаваться. Обе партии предельно драматизировали ситуацию. "Подлинное спасение нашей страны зависит от поражения договора", - уверял Д. Бэкли, правая рука Мэдисона, нью-йоркского республиканца де Бит-Клинтона. Неудивительно, что партийная вражда достигла небывалого доселе эмоционального накала. "Принципиальная разница между республиканцами и монократами настолько велика и очевидна, - писал Джефферсон Джайлзу в декабре 1795 года, - что держаться середины было бы также аморально, как болтаться между партиями честных людей и мошенников". Федералисты, естественно, так же смотрели на республиканцев.
Последний шанс сорвать договор представился республиканцам в конце февраля 1796 года, когда палата представителей приступила к рассмотрению вопроса о выделении ассигнований на создание арбитражных комиссий во исполнение "договора Джея". Здесь и развернулось решающее сражение. Палата затребовала от президента все документы, относящиеся к заключению договора. Вашингтон по совету Гамильтона наотрез отказался предоставить их - к восторгу федералистов. "Будь прокляты его добродетели, они губят страну!" - вырвалось у Джефферсона в частном письме. В ответ первый в истории США кокус (совещание партийной фракции) республиканского руководства в палате постановил отказать в ассигнованиях. 15 апреля Мэдисон внес соответствующую резолюцию. Отказ в ассигнованиях означал бы торпедирование договора.
Разгорелись ожесточенные двухнедельные дебаты, которые вели, с одной стороны, Мэдисон, Галлатин, Ливингстон и Джайлз, с другой - Сэджвик и Грисвольд. Одновременно обе фракции пытались завоевать общественность путем митингов, петиций и т. д. Профедералистские деловые круги не остановились перед прямым экономическим бойкотом и шантажом. Они нагнетали страхи перед угрозой войны и призывали к верности президенту. В результате этой психологической обработки уверенный перевес республиканцев сократился "путем перебежек и отлыниваний до восьми-девяти голосов" и "продолжал таять вплоть до решающего дня", жаловался Мэдисон Джефферсону 23 апреля.

Альберт Галлатин
Исход борьбы все же оставался неясным, и Гамильтон даже подготовил план действий на случай отказа палаты в ассигнованиях: президент заявляет протест палате - сенат рекомендует ему приступить к исполнению договора - Вашингтон приносит извинения Англии. "От этого зависит слава президента и безопасность конституции. Здесь все пойдет в ход", - отмечает он.
Наконец, 29 апреля было проведено первое голосование - 49 против 49! Напряжение достигло предела. И тогда пробил "звездный час" Фишера Эймса. До синевы изнуренный долгой болезнью, он все же добрался до конгресса и вложил все свое знаменитое красноречие в короткую и страстную проповедь, потрясшую собрание. Он призвал конгрессменов "остановиться и подумать о неизбежных и очевидных опасностях прежде, чем шагнуть в бездонную черную пропасть". Отвергнуть договор - значит оставить пограничные форты в руках англичан - подстрекателей индейцев. И тогда "тьму ночи озарит пламя пожарищ ваших жилищ. Ты отец - кровь сыновей оросит твое кукурузное поле. Ты мать - военные кличи нарушат покой младенца в колыбели... Сегодня мы должны держать ответ перед вдовами и сиротами, которых породит наше решение, перед несчастными заживо сожженными, перед своей страной, совестью и самим богом". Сентименты разбавлялись метафоризированными подсчетами грядущих барышей: "Огромный урожай нашего нейтралитета - всего лишь семена, которые, если их посеять, дадут не поддающуюся измерению жатву процветания". И напоследок - пронзительные, проникающие в сердце слова: "Моя непосредственная заинтересованность в происходящем меньше, чем у кого бы то ни было. Ни у кого из вас нет меньших шансов, чем у меня, быть свидетелем всех последствий. И все же, если ваш голос поднимется против, даже я, сколь ни слаба и почти сломлена моя жажда жизни, могу пережить правительство и конституцию своей страны".
"Боже, как он велик!" - прослезился кремнеподобный Джон Адамс, а с ним и многие другие. На следующий день палата одобрила выделение ассигнований 51 голосом против 48. По наивно-романтизированной версии этих событий победа федералистов целиком и полностью является заслугой "златоуста" Эймса. В действительности же дело решали не столько красивые слова, сколько некрасивые дела, ибо за кулисами шла отчаянная схватка за несколько голосов колеблющихся республиканцев Нью-Йорка, Пенсильвании и Мэриленда, которые держали баланс голосования. В ход пускались любые средства - от подкупа до шантажа. Ф. Мулленберга, например, "достали" через сына, влюбившегося в дочь одного федералиста. "Если вы не отдадите нам свой голос, ваш сын не получит мою Полли", - предупредил один родитель другого. Мулленберг выбрал счастье сына. Другие просто не явились на голосование. Семь перебежчиков-республиканцев против трех у федералистов решили исход схватки.
Причина поражения, с горечью писал Мэдисон в Монтичелло, заключается прежде всего в "нестойкости, глупости, порочности и дезертирстве наших друзей". При всем этом голосование показало, что в конгрессе сложились две очень сплоченные партийные группировки: 93% федералистов голосовало против 87% республиканцев, доля независимых беспартийных членов упала с 42% в 1790 году до 7% в начале 1796 года. Сплачивание республиканцев реально возглавлял Мэдисон, который в то время оставался действующим руководителем своей партии. Джефферсон был скорее символическим лидером - образ всесведущего закулисного режиссера, руководящего всеми действиями из Монтичелло, существовал лишь в воображении его самых лютых врагов.
Горечь поражения не затуманила проницательного взгляда Джефферсона и не подорвала его оптимизма. Он видел, что победа далась федералистам дорогой ценой: их покинули последние южане, а также значительная часть судовладельцев, промышленников и торговцев, задетых условиями "договора Джея". Кроме того, федералисты оказались дискредитированными в глазах широких масс как прислужники ненавистной английской короны, а популярность республиканцев возросла. Именно к этому времени складывается широкая коалиция республиканской партии - к плантаторам и фермерам начинает примыкать часть городской буржуазии и ремесленников, страдающих от английской торгово-промышленной конкуренции. В долгосрочной перспективе все это должно было дать свои плоды. В получившем впоследствии широкую огласку письме Джефферсона своему старому итальянскому приятелю Филиппу Маццёи (апрель 1796 г.) чувство оптимизма сочетается с прогрессирующим разочарованием в Вашингтоне. "Вас хватил бы удар, если бы я назвал имена отступников, предавшихся этим ересям (т. е. монархическому англофильству. - В. П.), людей, бывших Самсонами на поле брани и Соломонами в государственных делах, но оказавшихся преданными продажной Англией. Короче, мы сможем сохранить свободу, которую получили, только неустанными трудами и лишениями. Но мы сохраним ее: перевес сил и средств на стороне добра столь велик, что исключает опасность применения против нас силы. Мы должны лишь пробудиться и разорвать лилипутские веревки, которыми они связали нас во время первого сна после тяжелых трудов". Нынешняя сила федералистов, верно предвидел Джефферсон, вскоре обернется их главной слабостью. "Ничто не может поддержать их, кроме колоссальных заслуг президента перед народом, - писал он в июле Монро, - и с его отставкой преемник, если окажется монократом, будет опрокинут республиканскими убеждениями избирателей, а если республиканцем, то, конечно, даст ход этим убеждениям и восстановит гармонию между правителями и управляемыми. А пока - терпение..."
Джефферсон ошибался в одном - надеясь, что правое дело восторжествует без его непосредственного участия. В год выборов республиканцы не собирались держать втуне огромный политический капитал - имя Томаса Джефферсона. Репутация революционных лет, достойная служба во Франции, отождествление с делом республиканизма в 1790-1793 годах и даже последующий выход из правительства-все превращало его в наиболее популярного лидера партии.
Об этом твердили ему Мэдисон, Монро, Джайлз и даже А. Бэрр, совершивший далекое паломничество из Нью-Йорка в Монтичелло. Джефферсон в письме Рутледжу смиренно утверждал: "Тщеславие мое давно умерло.., я не рвусь править людьми". Он просит только одного - дать ему возможность продолжать "сажать горох, зерно и прочее...". Похоже на категорическое отречение? Но процитируем то же письмо дальше: "...до тех пор, пока наши восточные друзья (федералисты. - В. П.) будут бороться со штормом, который собирается над нами, и, возможно, потонут в нем. Сейчас, конечно, не время домогаться руля".
Надвигавшимся штормом было неминуемое резкое обострение отношений с Францией после утверждения "договора Джея", и Джефферсон вовсе не хотел таскать каштаны из огня для федералистов. Он согласен разве лишь на пост вице-президента, который, с одной стороны, даст ему возможность находиться у центра событий и, с другой - оставит достаточно времени, чтобы наслаждаться "философскими вечерами зимой и сельскими полднями летом". Философствовать и сажать горох - пока шторм не утопит "восточных друзей". Покуда он отмалчивался, но и этого молчания для его приверженцев было достаточно, чтобы начать продвигать его кандидатуру. "Война скоро начнется вновь, - предсказывал летом 1976 года Эймс. - Вопрос о том, кому быть президентом и вице-президентом, положит конец вооруженному нейтралитету. Нашим кандидатом будет мистер Адаме, их - Джефферсон".
* * *
Выборы 1796 года стали, по существу, первыми настоящими президентскими выборами в истории США. Уход Вашингтона был делом решенным, и впервые высший государственный пост реально оспаривался представителями двух соперничающих партий. Вице-президент Джон Адамс являлся если не абсолютно бесспорным, то единственно возможным кандидатом федералистов, который мог рассчитывать на широкую поддержку по всей стране. Наряду с Джефферсоном Адамс был одним из последних знаменитых "отцов-основателей", остававшихся к тому времени на национальной политической арене. Среди федералистов в популярности с Адамсом мог бы поспорить только Джей, но его большую политическую карьеру перечеркнул злополучный договор. Что касается Гамильтона, то даже он сам не обманывался насчет неприемлемости собственной кандидатуры. Единственное подобное предложение поступило к нему от легислатуры торгового Род - Айленда - скромный утешительный приз.
Послужной список Адамса, с точки зрения федералистов, был далеко не безупречен. В бытность свою вице-президентом он в основном поддерживал их программу, но не скрывал своей неприязни к банкам и высоким налогам и сохранял дружеские отношения с Джефферсоном и некоторыми другими республиканцами. Даже в своем теоретическом консерватизме он слыл "еретиком" среди "правоверных" федералистов. Адамс не доверял аристократии так же, как и народу, и потому стоял за строго сбалансированное правление, в котором аристократический сенат сдерживался бы подлинно демократической палатой. В отличие от большинства собратьев - политиков, он не умел приноравливаться к вкусам публики, не укрывался псевдонимами, а открыто и методично излагал свои взгляды в пухлых тяжеловесных трактатах. Последняя и самая главная проблема состояла в том, что его сильно недолюбливал сам некоронованный глава партии - Гамильтон. Их обоюдная неприязнь зародилась еще в 1788 году, когда Гамильтон тайно маневрировал в президентских выборах против Адамса, чтобы обеспечить победу Вашингтону. С тех пор между ними установились холодные отношения: психологически они были несовместимы, а главное - Адамс был не таков, чтобы стать послушной глиной в руках Гамильтона. Однако первый был необходим второму для решения главной задачи: "Все личные и частные соображения надо отмести, все должно служить великой цели - исключить Джеффер-сона!" А уж затем можно было подготовить и "исключение" самого Адамса.
План Гамильтона на этот счет был прост: в те годы избиратели голосовали за кандидатов на два высших поста в государстве попарно, не делая между ними различий, и получивший большее количество голосов становился президентом, а меньшее - вице-президентом. Поэтому нужно сделать так, чтобы федералистский кандидат в вице-президенты получил больше голосов, чем Адаме. Вначале на роль дублера предлагался ветеран Патрик Генри, обратившийся к тому времени в федералиста, а после его отказа - Томас Пинкни из Южной Каролины. Он получил известность после того, как ему удалось заключить в 1795 году договор с Испанией, временно открывший американцам доступ к Миссисипи. (Испанцы пошли на эту уступку во многом из опасений, что будет создан англо-американский союз, предвестием которого им представлялся "договор Джея".) Кандидатура Пинкни понравилась Гамильтону - неопытный в большой политике, всем ему обязанный, Пинкни будет послушным президентом. Его расчет строился на том, что на Северо - Востоке Пинкни получит равное с Адамсом количество голосов, а на Юге, в первую очередь в Южной Каролине, удастся "оторвать" от непопулярного там Адамса несколько решающих голосов в пользу каролинца Пинкни.
К лету 1796 года обе партии были уже готовы к решающей схватке и ждали только одного - публичного отказа Вашингтона от переизбрания на третий срок. Президент следовал совету Гамильтона "тянуть с заявлением как можно дольше", чтобы оставить оппозиции меньше времени для развертывания избирательной кампании. Лишь 19 сентября, за полтора месяца до самих выборов, Вашингтон огласил свое знаменитое "прощальное послание" - пожалуй, самый известный результат его сотрудничества с Гамильтоном.
Еще в мае президент послал ему примерные тезисы, в которых выделялись две темы: воздержание от политических связей с Европой и укрепление союза в противовес партийной вражде. Бережливый Вашингтон присоединил к ним и первый проект послания, написанный Мэдисоном еще в 1792 году в духе торжественной оды республиканизму, но предоставил Гамильтону свободу "придать материалу любую форму". Сознавая политическую и историческую значимость документа, Гамильтон отнесся к поручению с предельной ответственностью. Необычно долго для человека, всегда писавшего в большой спешке, - почти три месяца трудился он над посланием, тщательно взвешивал каждое слово, пробовал на звучание каждую фразу, не раз перечитывал написанное жене. Скупые тезисы Вашингтона он развил и связал воедино, воплотив в стройную систему доказательств, добавил свои аргументы и акценты, убрал нотки личной обиды президента и отлил все в монументальную художественную форму.
"Моей целью, - пояснял он Вашингтону, - было сделать этот документ важным и полезным надолго.., отразить в нем мысли и чувства, способные выдержать испытание времени, и содействовать вашей грядущей славе". В итоге небольшая ритуальная речь превратилась в политическое завещание Вашингтона, кредо всей партии федералистов и один из самых известных документов американской истории.
Увидев текст, Вашингтон был приятно изумлен и лишь чуть подправил стиль. За исключением краткой вводной части, где объявляется решение президента уйти в отставку, все обращение состоит из "советов старого и преданного друга" американскому народу. Обыкновенно оно приводится в качестве библии изоляционизма США, и только. В действительности же внешней политике отводится лишь заключительная часть документа, а основное место в нем уделено внутренним вопросам, главным образом опасности оппозиционных партий и межпартийной вражды вообще. Прежде всего Вашингтон завещает беречь и крепить основу союза - государство, "залог вашей политической безопасности и процветания .., политическую крепость, на которую всегда будут нацелены батареи внутренних и внешних врагов".
В послании торжественно предается анафеме любая оппозиция государству и конституции. "...Всяческое противодействие исполнению законов, все общества и союзы любого внешне благовидного свойства, в действительности имеющие целью направлять, контролировать, запугивать или препятствовать нормальному обсуждению и действиям конституционных властей, подрывают этот главный принцип (обязанность каждого гражданина безоговорочно подчиняться государству. - В. 77.) и ведут к фатальным последствиям". Вашингтон подробно останавливается на "губительном воздействии партийного духа", который разжигает враждебность одной части страны против другой, нередко подстрекая на беспорядки и восстания, и "открывает дверь иностранному влиянию и коррупции, которые получают облегченный доступ к самому правительству через каналы партийных страстей".
Даже спокойная величавость этих строк не может скрыть их антиреспубликанского острия; как застывшая лава, они напоминают о накале партийных страстей тех давних лет. В заключении внутриполитического раздела завещалось беречь общественный кредит и исправно платить налоги - пожелание явно гамильтоновского толка.
Знаменитая внешнеполитическая часть обращения задумана Гамильтоном как кодификация и канонизация в устах "отца нации" принципов внешней политики, разработанных на практике при его активном участии, и в то же время - как приложение общих правил и вечных законов, открытых наукой о мировой политике, к конкретным американским условиям. Поэтому он раздвигает скупые тезисы Вашингтона в широкой исторической перспективе, превращая их в свод "общих принципов" и "великих правил поведения" США в мире на долгие годы вперед.
Вторя писаниям "Пацификуса" и "Камиллуса", обращение призывает к проведению сугубо эгоистической внешней политики: "Страна, которая предается привычной ненависти или привычной привязанности в отношении другой, является в какой-то степени рабом - рабом собственной враждебности или привязанности, любой из которых достаточно, чтобы сбить ее с пути своего долга и интереса... Нет большего заблуждения, чем рассчитывать на реальные одолжения друг другу в отношениях между странами".
В послании воспроизводится оценка стратегических интересов США в Старом Свете, данная Гамильтоном еще в "Федералисте": "У Европы - свой собственный набор основных интересов, не имеющих к нам никакого отношения или очень отдаленное... Было бы, следовательно, неразумно для нас вовлекаться искусственным путем в извечные превратности ее политики..."
Из двух основных исходных установок выводится "великое правило поведения" для США в отношениях с иностранными (а по существу, европейскими) государствами - "расширяя наши торговые отношения, иметь с ними как можно меньше политических связей". В США эти заветы традиционно считаются заповедью изоляционизма, хотя на самом деле, как показано, в частности, в работе Г. А. Трофименко "США: война, политика, идеология" речь шла о сохранении свободы рук на международной арене. Во-первых, авторы обращения вовсе не абсолютизировали принцип "невовлечения" в европейские дела, признавая целесообразность "временных союзов в чрезвычайных обстоятельствах", во-вторых, и это главное, они отнюдь не собирались ограничивать свою свободу действий в Западном полушарии, а в долгосрочной преспективе - и в Европе. Хотя Гамильтон из дипломатических соображений воздержался от подтверждения своей агрессивной империалистической программы в Западном полушарии, общая установка "отцов-основателей" на достижение со временем "позиции силы" по отношению к потенциальным противникам в послании сохранилась. "Наше уединенное и отдаленное положение склоняет нас и дает возможность к проведению иного курса. Если мы пребудем единым народом под эффективным правлением, то недалеко то время, когда мы сможем не считаться с материальным ущербом от нападок извне... и выбирать между миром и войной, как нам подскажет наш интерес, направляемый справедливостью". В черновом варианте Вашингтона та же мысль была выражена еще более откровенно: "Если наша страна сможет прожить в мире еще в течение двадцати лет.., то ее население, богатство и ресурсы будут, по всей вероятности, такими, что... позволят ей вообще не считаться с любой державой земли в справедливых делах". "Моим главным соображением, - говорится в послании президента, - было выиграть время для нашей страны..." Почти 20 лет спустя то же самое и еще более выразительно скажет экс-президент Джефферсон: "В течение ближайших двадцати лет нам следует рассматривать мир как высшее благо для нашей страны. К концу этого периода нас будет двадцать миллионов по числу, но сорок - по силе, когда мы столкнемся с голодными и рахитичными рекрутами - нищими и карликами из промышленных мастерских Великобритании". Заветный рубеж сведения счетов со Старым Светом приходилось все время отодвигать в будущее; мысль "отцов-основателей" далеко опережала свое время и возможности самих США. Пройдет еще около полутора веков, прежде чем Соединенные Штаты Америки всерьез и открыто начнут претендовать на роль мирового жандарма. Но общие принципы внешней политики США, канонизированные Вашингтоном и Гамильтоном в "прощальном послании", надолго переживут их самих.
* * *
"Прощальное послание" прозвучало для обеих партий гонгом, возвестившим о начале избирательной кампании. Страна еще не остыла после яростных дебатов вокруг "договора Джея", и выборы, по существу, превратились в референдум по вопросу о внешнеполитическом курсе федералистов. Республиканцы стремились монополизировать положение "партии мира", обвиняя федералистов в разжигании войны с Францией. В компрометации Вашингтона и его политики их пресса побила все прежние рекорды. К старым обвинениям в монархизме и англомании прибавились новые: главнокомандующий, оказывается, шпионил в пользу англичан еще в годы освободительной войны! Дальше идти было некуда.
Поклоннику английской конституции Адамсу тоже доставалось изрядно, благо его собственные сочинения предоставляли удобную мишень. "Томас Джефферсон первым написал Декларацию независимости, - гласила одна из пенсильванских предвыборных листовок, - он первый провозгласил священный закон равенства всех людей. Джон Адамс утверждает, что все это ложь, что одни должны рождаться королями, а другие - дворянами... Кого из них, свободные граждане Пенсильвании, вы изберете своим президентом?"

Третий президент страны - Томас Джефферсон
Федералисты не оставались в долгу. Большую известность получил памфлет У. Смита и Гамильтона "Разбор притязаний Томаса Джефферсона" - настоящая антиджефферсонов-ская энциклопедия всех реальных и выдуманных пороков республиканца. Он представал врагом кредита, религии, союза и Джорджа Вашингтона; трусливым философом, истинное призвание которого - "насаживать на булавки бабочек и насекомых, а также изобретать вращающиеся стулья на благо своих сограждан и всего человечества".
Федералисты не спешили облачиться в боевые доспехи, услужливо подсунутые им республиканцами. Форсированное обострение отношений с Францией и угроза войны с ней могли сослужить плохую службу в выборном году. "Для нас, - внушал Гамильтон Вашингтону осенью 1796 года, - чрезвычайно важно избежать разрыва с Францией, а если это невозможно - продемонстрировать народу недвусмысленное стремление к этому". Они рядились в тогу истых патриотов и выставляли республиканцев марионетками Франции. Неожиданную поддержку в этом им оказал французский посланник П. Адэ. В ноябре, накануне решающих выборов в Пенсильвании, он обратился к избирателям через республиканскую "Аврору" с призывом голосовать за Джефферсона - "верного друга Франции", грозя в противном случае войной. Беспрецедентный в истории США пример открытого иностранного вмешательства в ход выборов!
Адэ и стоявшая за ним Директория повторяли роковую ошибку Женэ, непомерно преувеличивая франкофильство республиканцев. Действия Адэ поддержала лишь кучка экстремистов, а лидеров партии эта медвежья услуга только покоробила. Год спустя Адэ трезво оценил "верного друга Франции". "Мистер Джефферсон любит нас потому, что ненавидит Великобританию, - писал он в Париж, - но завтра он может изменить свое мнение о нас, если Великобритания перестанет страшить его. Поборник свободы и Просвещения, восхищающийся нашими усилиями в собственном раскрепощении и просвещении рода человеческого, Джефферсон, повторяю, прежде всего - американец и, как таковой, не может быть искренним нашим другом".
Джефферсон старался философски воспринимать двойной поток панегириков и ругани в свой адрес. "По правде сказать, я не узнаю себя под пером как друзей, так и врагов. К несчастью для нашего спокойствия, незаслуженные оскорбления наносят раны, которые незаслуженные хвалы не в силах излечить". По негласной традиции, оба кандидата в избирательной кампании не участвовали, но у Джефферсона за спиной стояла сплоченная партия и верный Мэдисон, а у Адамса - коварный властолюбивый Гамильтон.
Но замысел Гамильтона не удался полностью. Федералисты Новой Англии вопреки его настояниям не поддержали чужака Пинкни из боязни, что он сможет обойти популярного в этих штатах Адамса. Перспектива избрания малоизвестного каролинца президентом страшила их больше, чем вице-президентство Джефферсона. Таким образом, Джефферсон едва не стал президентом - он получил 68 голосов выборщиков, всего на три меньше, чем Адаме. Жертвой закулисных махинаций стал Аарон Бэрр. Дабы получить голоса Нью-Йорка, республиканцы выставили его в вице-президенты, посулив поддержку всей своей партии. Но при голосовании он был покинут Югом и пришел в выборной гонке последним.
Бэрр и Адамс ничего не забыли и не простили. Еще во время избирательной кампании доброхоты всех мастей разжигали подозрения Адамса насчет Гамильтона. Жена Адамса Абигайль - единственный непогрешимый авторитет для своего крайне недоверчивого мужа твердила ему о закулисной роли Гамильтона - "тонкого интригана с амбициями Юлия Цезаря". "Я знаю его как тщеславного гордеца, - соглашался Адаме, - и готов признать его таланты, но ничуть не боюсь его". Подозрения скоро превратились в твердую уверенность. "В этих выборах затевались такие маневры и комбинации, которые удивят тебя.., - писал новый президент супруге 12 декабря. - В стране есть один неустанный дух, который охватывает ее целиком, где бы он ни был. Его нужно держать на прицеле и не позволять слишком многого".
Как бы ни подбадривал себя Адамс, он не представлял, насколько плотно был окружен со всех сторон "неустанным духом". Федералистский кабинет, доставшийся ему в наследство от Вашингтона, полностью состоял из людей Гамильтона. Все они: генеральный казначей Оливер Уолкот, госсекретарь Тимоти Пикеринг, военный министр Джеймс Макгенри, - были назначены Вашингтоном по рекомендации Гамильтона и не принимали ни одного важного решения без его ведома. Люди, лишенные особых талантов, они охотно подчинялись воле и интеллекту своего патрона. "Я хочу, чтобы вы не только видели все карты, но и сами вели игру", - расшаркивался перед ним Пикеринг. Стандартным обращением к Гамильтону самого неспособного, но и самого преданного из них - Макгенри было: "Мой дорогой Гамильтон! Не поможете ли вы мне, а вернее, нашей стране, своими соображениями и предположениями по поводу прилагаемых документов?"
Примерно такие же отношения связывали Гамильтона с лидерами федералистов в конгрессе - сенатором от Массачусетса Т. Сэджвиком, спикером палаты представителей Д. Дэйтоном и др. Это, пожалуй, единственный подобный случай во всей истории США, когда стоявший за кулисами лидер партии мог направлять действия как исполнительной, так и законодательной власти, что было явно не под силу президенту Адамсу.
Вполне сознавая взаимное отчуждение президента и федералистского руководства, лидеры республиканцев принялись было культивировать его, надеясь добиться раскола враждебной партии. Инициатива принадлежала Джефферсону. Уже 1 января 1797 г. в письме Мэдисону он зондирует почву о возможности перетягивания Адамса на свою сторону как "единственного надежного барьера против Гамильтона". В качестве первого шага он предлагал собственноручное послание Адамсу, в котором было все: и дружеское предупреждение об "интригах вашего архидруга из Нью - Йорка", и смиренное отречение в пользу Адамса "от высших восторгов управления штормом, от общества шпионов и подхалимов во имя спокойного сна и компании соседей-друзей и собратьев-тружеников земли", и убеждение в том, что Адаме спасет страну от войны. Всегда осторожный, Мэдисон оставил это письмо у себя. О расположении республиканцев Адамсу уже дали почувствовать через третьих лиц, атаки партийной прессы против него прекратились, и такое послание могло только слишком тесно связать республиканцев с неизвестной пока политикой нового президента. Джефферсон согласился с этим.
Гамильтон довольно спокойно наблюдал за этой кампанией по обработке Адамса. Как и Мэдисон, он понимал, что одной личной неприязни между ним и президентом еще недостаточно, чтобы расколоть партию; для этого нужны гораздо более серьезные политические пертурбации. Но и в них не было недостатка в эти бурные для Америки последние годы XVIII столетия.
Соединенным Штатам предстоял очередной мучительный тур лавирования между Англией и Францией. Правительство Вашингтона предотвратило дальнейшее обострение отношений с Великобританией дорогой ценой - "договор Джея" создавал основу для серьезного конфликта с Францией. Директория по достоинству оценила этот успех федералистской дипломатии: Франция, заявила она, предпочитает открытых врагов предателям-друзьям. Сразу же после ратификации договора в США последовали ответные меры Франции, в точности перенявшей прежнюю английскую тактику в отношении американских торговых судов. В октябре 1796 года Адэ уведомил об этом Пикеринга, а в ноябре, в разгар предвыборной кампании, опубликовал в газетах соответствующую ноту Франции, объявив к тому же о временном разрыве нормальных дипломатических отношений между двумя странами.
Новый кризис развивался аналогично предшествовавшему англо-американскому. "Наши отношения с Францией достигли критической точки, - с тревогой писал Гамильтон Вашингтону в январе 1797 года. - Мы, кажется, находимся с нею в том же положении, что были с Великобританией к моменту, когда туда отправился Джей". Его предположения были также аналогичными тогдашним: переговоры и укрепление обороны.
Вашингтон на пороге отставки не стал провоцировать еще один внешнеполитический кризис и ограничился отправкой в Париж нового посла Ч. Пинкни на смену непокорному Монро с наказом как-нибудь успокоить французов. "Президент удачно выходит из игры, как раз когда пузырь грозит лопнуть, предоставляя ношу другим", - заметил Джефферсон. Действительно, Адамс получал тяжелое наследство, и недаром его обуревали мрачные предчувствия. "С половиной континента на руках, - ворчал он, - не считая Англии, Франции, старых тори и всех якобинцев страны, я приобретаю дьявольское бремя". Именно динамика развития франко-американских отношений определила весь ход политической борьбы следующих четырех лет - всего президентства Адамса.
* * *
Едва Адаме успел вступить в должность, как стало известно об оскорбительном отказе Директории принять нового посла Ч. Пинкни. Это было равносильно окончательному разрыву дипломатических отношений. Пузырь кризиса лопнул, откладывать решение стало уже невозможно. Гамильтон тем временем уже подготавливал мнение кабинета. В инструкциях министрам он рекомендовал направить во Францию специальную миссию с участием Мэдисона или даже Джефферсона и подробно развивал программу укрепления обороноспособности страны: строительство военно-морского флота, вооружение торговых судов, создание 25-тысячной временной армии, введение дополнительных налогов. Но главный упор делался на предотвращение войны. "Вы должны сделать все возможное для избежания разрыва.., - наставляет он Уолкота. - Посылка миссии обезоружит оппозицию и может привести к заключению нового договора с Франицей, аналогичного "договору Джея".
Мирные переговоры с "якобинцами", да еще при участии Джефферсона... Такое миролюбие со стороны воинствующего франкофоба может показаться необъяснимым, если не учитывать серьезного поворота, происшедшего к тому времени в титанической борьбе Франции со странами коалиции: выход из войны Пруссии, а затем и Испании; блистательные, потрясшие весь мир победы французской армии под предводительством молодого Бонапарта, сокрушившего в начале 1797 года в сражениях при Риволи и Мантуе основные силы Австрии. На стороне Англии оставалась еще могущественная Россия, но и ее дальнейший курс после смерти Екатерины II и воцарения Павла I становился малопредсказуемым. "Император Павел ведет себя в лучшем случае неопределенно, - писал членам кабинета Гамильтон, пристально следивший за изменениями в европейском "балансе сил". - Преемник всегда отличается от своего предшественника, а этот, кажется, еще и реформатор. Кто знает, к чему он склонится в конечном итоге?" Россия, продолжает Гамильтон, вполне может выйти из войны, в таком случае Франции будет противостоять только Великобритания, но и ее положение стало весьма критическим: банкротство английского банка, мятежи на флоте, сильные волнения в Ирландии. В Нормандии с конца 1797 года готовилась армия вторжения на Британские острова, командующим которой вскоре был назначен все тот же непобедимый Бонапарт. Р. Кинг, сообщая Гамильтону из Лондона о "невероятных" победах французов, с ужасом писал об их секретных, "еще более гигантских планах", которые "изменят лицо Европы и охватят все уголки земного шара". Неудивительно, что Гамильтон боялся полного разрыва с "политическим монстром, коему суждено иметь противником одну только Англию".
Не сегодня-завтра Англия, казалось, может пасть или заключить мир с Директорией, и тогда "кто может гарантировать, что мы не останемся в одиночестве перед лицом французского диктата?" С военной точки зрения война с Францией в данной ситуации была бы самоубийством. "Потерять мы можем очень многое, а выиграть не можем ничего", - резюмировал Гамильтон в письме Макгенри. Поэтому-то он и стоял за "сочетание энергии с осторожностью".
Но не все федералисты были готовы к примирению с "политическим монстром". Пикеринг и Уолкот воспротивились было идее отправки в Англию специальной миссии, но призывы Гамильтона не поддаваться эмоциям, а главное - само давление его авторитета сделали свое дело. "Я не настолько несведущ относительно степени вашего влияния на друзей правительства, - ворчал Пикеринг, - чтобы не понимать, что, если известно, что вы - за посылку миссии, то значит так тому и быть".
Независимо от Гамильтона, к идее миссии и созыва специальной сессии конгресса пришел и Адаме. В начале марта он советовался с Джефферсоном по поводу включения последнего или Мэдисона в состав миссии. Но вице-президент не пошел ему навстречу. Когда 14 апреля Адаме запросил предложения кабинета, они во многом совпали с его собственными. Президент направил их конгрессу 16 мая точно так, как хотел Гамильтон: твердо, "по-мужски", продемонстрировав Франции жесткость американской позиции. Никто не верил своим глазам. Федералисты не могли нарадоваться решительности президента. Республиканцы срочно предали его анафеме. "Президент, избранный перевесом всего в 3 голоса, - негодовала "Аврора", - подло обманул надежды народа на мир. И этот жулик, случайно ставший президентом, воображает себя государством! Бедный старик, как он обманывается". Им вдруг все стало ясно: Адамс попал в сети федералистов, которые сознательно ведут дело к войне. Принятие конгрессом программы Адамса, считал Джефферсон, выставит страну "в угрожающем виде" и "спровоцирует враждебные действия другой стороны". А что может быть бессмысленнее, чем столкновение "республик, искренне любящих друг друга?" Джефферсон, как и все республиканцы, отлично понимал все внутриполитические последствия войны с Францией: республиканская оппозиция будет раздавлена. "Если война начнется, господство тори укрепится".
Обе партии нуждались в мире, но федералистов больше всего устраивал мир на грани войны, постоянный кризис, который помог бы держать оппозицию в узде. Действительная область согласия между ними во внешней политике была достаточно широкой'- политика "баланса сил", предусматривавшая сохранение и использование в своих интересах вражды двух "центров силы" в Европе. Редко в чем Гамильтон и Джефферсон проявляли такое единство. Как ни ненавидел Англию вирджинец, еще больше он опасался ее поражения в войне с Францией. "Покорение Англии было бы всеобщим бедствием, - писал он, - к счастью, это невозможно".
Но в горячке яростного столкновения иных интересов скромные проанглийские и профранцузские симпатии неизбежно раздувались и еще* более обостряли межпартийную вражду. В мае 1797 года, например, разразился страшный скандал, когда американские газеты перепечатали появившееся во французской печати уже упоминавшееся гневное письмо Джефферсона Филиппу Маццеи. Вице-президент представал в нем не только хулителем Вашингтона, но и рьяным апологетом Франции - "страны-матери, обеспечившей свободу и независимость" североамериканской республике. Это резко диссонировало с оживлением националистических и антифранцузских настроений в стране.
Все эти события сорвали наметившееся было перемирие между Адамсом и республиканцами, вновь подхлестнули политические страсти. Джефферсон познал дотоле неиспытанный остракизм со стороны администрации и федералистского общества Филадельфии. Это было время, когда, по его словам, "люди, близко знакомые на протяжении всей жизни, перебегали на противоположную сторону улицы и отворачивались друг от друга, чтобы не пришлось приложить руку к шляпе". Старинная дружба с Адамсом была принесена в жертву политике, президент больше ни разу не посоветовался с ним. Джефферсон стал нежеланным гостем в светских салонах столицы, где царил воинственный шовинистический дух.
Именно в это время он впервые полностью вступает в права лидера республиканской партии. За какие-то несколько месяцев философ из Монтичелло превратился в матерого политика, неутомимого тактика и стратега партии. Этому способствовали и чисто внешние обстоятельства: с уходом Мэдисона лидером республиканской фракции в конгрессе стал недавний иммигрант швейцарец Галлатин, которому не хватало национальной популярности. К тому же пост вице-президента служил идеальной позицией для роли партийного лидера.
Джефферсон начинает бурную закулисную деятельность по укреплению своей партии. Он обласкал обиженного Бэрра, завязал отношения с умеренными федералистами типа Э. Рутледжа из Южной Каролины. Он направляет республиканскую прессу, укрепляет партийную дисциплину в конгрессе. С тревогой угадывали федералисты скрытую активность вице-президента, ставшего, по словам Сэджвика, "душой оппозиции".
Тем временем военная программа Адамса буксовала в конгрессе. Ненависть к Франции была еще не столь велика, чтобы заставить его одобрить такие традиционно непопулярные меры, как увеличение армии, военных расходов и налогов. И хотя экстремисты обеих партий неистовствовали ("спор" республиканца М. Лайена и федералиста Р. Грисвольда с использованием в качестве последних аргументов трости и каминных щипцов "украсил" парламентскую историю США), ни один из крупных пунктов программы, кроме отправки миссии во Францию, не был принят специальной сессией из-за сопротивления республиканцев и умеренной части федералистов. В конце июня конгресс был распущен, и тут же федералисты получили неожиданный удар - всплыло "дело Рейнольд".
Четыре с лишним года эта история была достоянием лишь узкого круга республиканцев. Кроме трех свидетелей в нее были посвящены Джефферсон, Мэдисон и клерк палаты представителей Беркли, у которого хранились копии всех документов, связанных с этим делом. Когда федералистам в июне 1797 года удалось, наконец, изгнать Беркли из палаты, немедленно последовал акт мщения - он передал документы журналисту Джеймсу Каллендеру. Беркли знал, кому доверить такое дело: Каллендер, высланный из Англии за печатную клевету, стал ведущим мастером диффамации в Америке. За соответствующее вознаграждение он мог очернить любого самым убийственным образом: талант, пользовавшийся большим спросом в раздираемом партийными распрями Новом Свете. Принципы его мало интересовали, но в это время он состоял в услужении у республиканцев и пользовался покровительством самого Джефферсона.
В начале июля в печати появились первые антигамильто-новские памфлеты Каллендера в виде выдержек из готовящегося издания его "Истории США в году 1796". Помимо старых обвинений в спекуляции, подкрепляемых письмами Рейнольда, в них фигурировало и новое: невинной жертвой преступных наклонностей бывшего казначея была объявлена "соблазненная и покинутая" Мария Рейнольд.
Гамильтон обратился к трем республиканским участникам "тайной вечери" 15 декабря 1792 г. с просьбой публично подтвердить свои тогдашние заверения в его непричастности к денежным махинациям. Согласились все, кроме Монро, тяжело пережившего свою отставку и считавшего Гамильтона причастным к ней. Он заявил, что доказательства казначея тогда его не убедили. Каллендер в наглых письмах подзуживал главу федералистов, пытаясь спровоцировать его на открытую перепалку в печати.
Чрезвычайно щепетильному в вопросах своей публичной репутации Гамильтону казалось, что его загоняют в угол. "Кажется, здесь заговор с целью вынудить меня к официальной защите, - пишет он Монро, - хотя вы знаете, что чрезвычайная щекотливость этой истории может оказаться для меня невыносимой". Монро упрямо стоял на своем, и дело едва не дошло до дуэли, но это никак не способствовало публичному оправданию Гамильтона. Тогда в последней попытке защитить свое доброе имя он решается на отчаянный шаг: вновь проделывает тоже, что и четыре года назад перед республиканской депутацией, но на этот раз уже перед всей страной. Друзья безуспешно отговаривали его от этой безумной затеи. 25 августа в газетах появляется ответ Гамильтона на памфлеты Каллендера, впервые подписанный его собственным именем.
Во всей американской политической литературе не сыскать, пожалуй, более отчаянного крика души и вместе с тем более самонадеянной декларации. Статья начинается яростным обличением "якобинского духа", для которого "нет ничего святого". И если эти нападки - не что иное, как "заговор порока против добродетели, - вопрошает Гамильтон, - не должен ли я быть скорее польщен тем, что так долго служил объектом его преследований?.. К чести человечества надо сказать, что немного можно найти людей, оклеветанных и преследуемых по столь ничтожному поводу, как я". А ведь общеизвестно, что "еще ни одни человек в общественной жизни не имел столь незапятнанной репутации безупречной честности в денежных вопросах, как я на посту генерального казначея".
Гамильтону не откажешь в искренности, но на фоне последующих признаний взятый им тон был неоправданно высокомерным. Гамильтон не просто признал, что его "подлинное преступление заключается в любовной связи" с Марией, но и подробно изложил все перипетии взаимоотношений с четой Рейнольд, стараясь придать своей версии максимальную убедительность и достоверность. Только стремление "стереть еще более серьезное пятно со своего имени" заставило его причинить этим признанием такую боль жене. В заключение Гамильтон процитировал все письма к нему супругов Рейнольд.
Враги и рассчитывать не могли на такую удачу. Признание в супружеской неверности не помогло Гамильтону убедить сограждан в своей служебной безупречности и, конечно, не прибавило ему популярности. Написанное кровью сердца стало предметом бесчисленных издевательств республиканской прессы. "Нельзя представить большего позора, чем это произведение, - злорадствовал Каллендер в письме Джефферсону. - Полсотни лучших перьев Америки не смогли бы написать против него больше". Надо отдать должное вице-президенту - он не присоединился к общему улюлюканью. Слишком уж неприглядная получилась история. Скандал лишил Гамильтона последних шансов на выборную политическую карьеру, и можно представить, какой глубокий след ожесточения оставил он в его душе.
Последовавшая затем зимняя сессия конгресса не смогла вывести правительство из тупика вынужденного бездействия. "Законодательная власть расколота, а партии преисполнены такой враждебности, какую только можно себе представить, - писал сенатор Д. Росс Вашингтону. - Та или другая партия должна добиться решительной победы, чтобы государственная машина смогла заработать по-настоящему". Хотя притеснение американской торговли со стороны Франции возрастало, посылка специальной миссии в составе умеренных федералистов Ч. Пинкни, Д. Маршалла и Д. Джерри, как и когда-то миссии Джея, поддерживала надежды на урегулирование отношений и тормозила принятие ответных мер. Конгресс погрузился в напряженное и тягостное ожидание. Любой резкий поворот событий легко мог склонить чашу весов в ту или иную сторону.
Каждый усматривал в молчании послов то, что хотел. Джефферсон расценивал его как "свидетельство мира" и надеялся если не на братские чувства, то по крайней мере на благоразумие Франции, заинтересованной в американской торговле. Адамс готовился к худшему и обсуждал с министрами возможные альтернативы в случае провала переговоров: объявление войны, эмбарго, союз с Англией.
Мнение кабинета по-прежнему определял Гамильтон. Он высказался против формального объявления войны Франции, которое, по его мнению, не даст никакого выигрыша и только закроет возможность переговоров, а также против заключения союза с Англией, ибо и без него "в силу общности интересов мы получим от нее столько же", в случае же "падения Англии союз этот поставит под удар и США". Короче, он стоял за сохранение свободы рук и усиление военной программы. И еще: необходимо объявить день поста и молитв - "глупо не использовать религиозных чувств нашего народа" в борьбе с "политическим фанатизмом" атеистической Франции. Раз Гамильтон вспомнил о религии, значит речь шла уже о тотальной мобилизации средств.
А в это время в Париже творились удивительные дела. Американская миссия прибыла туда еще в октябре и долго ждала официального приема у министра иностранных дел Талейрана. Ее члены ломали головы по поводу загадочного поведения французов. Прозрачные намеки трех местных финансистов - посредников министра не доходили до неискушенных в тонкостях европейской дипломатии американцев, пока, наконец, им не было заявлено прямо в лоб: "Вы должны заплатить, заплатить много денег!"
Министр, оказывается, хочет получить в качестве задатка "на сладенькое" 250 тысяч долларов (1,2 миллиона ливров) для себя лично и крупный заем на льготных условиях - для Франции. Для великого циника Талейрана, превратившего свое ведомство в доходное место, то была обычная практика, но "с этими упрямыми янки" он просчитался. Оскорбленные дипломаты хлопнули дверью, и Джерри с трудом уговорил коллег повременить с отъездом. Напрасно Талейран подсылал все новых посредников: Д. Трамбелла, Бомарше и даже приемную дочь Вольтера - очаровательную маркизу де Вилле, скрасившую послам не один холостяцкий обед, напрасно их пугали мощью Франции и совестили былым французским великодушием. Ответ, отчеканенный Чарлзом Пинкни, был однозначен "Ни гроша!" Впрочем, в одном Талейран преуспел. Обласкав более миролюбивого и покладистого Джерри, он расколол делегацию. 19 марта, после окончательного отказа в официальном приеме, Пинкни и Маршалл потребовали паспорта, а Джерри, считая себя последней надеждой на сохранение мира, остался. "Я остаюсь, чтобы предотвратить войну", - заявил он. Джерри был нужен Талейрану как заложник "партии мира" в самой Америке. Хотя Директория, по совету самого же Талейрана, и решила попугать США, она считала своей задачей "избежать вынужденного разрыва, который неизбежно бросит США в объятия Англии". Ход Талейрана опирался на военную мощь Франции и силу профранцузских пацифистских настроений республиканцев, по-прежнему преувеличиваемую в Париже. Этот блеф дорого обошелся Франции.
В начале марта в столицу США начали поступать тревожные сообщения из Парижа. 19 марта Адаме без всяких подробностей информировал конгресс об отказе Директории принять миссию и в энергичных выражениях призвал к укреплению обороны. Скрытность президента не устраивала экстремистов обеих партий. Слух об оскорбительном обращении с миссией уже пронесся, но республиканцы не верили ему, считая враждебной пропагандой, а федералисты хотели убедиться окончательно. Совместно они потребовали от президента передачи депеш миссии конгрессу. Джефферсон неодобрительно смотрел на эту затею. Его одолевали "мрачные предчувствия". "Вопрос мира и войны зависит теперь от того, как ляжет монета, - пишет он 29 марта Мэдисону. - Если мы продержимся хотя бы этот сезон, то будем спасены".
Гамильтон знал больше других. Пикеринг раскрыл ему сенсационное содержание депеш, и оно привело его в восторг. Еще недавно выступавший против вмешательства палаты представителей во внешнеполитический процесс, он теперь горячо поддерживает идею истребования злополучных депеш.
3 апреля Адамс охотно передал документы конгрессу, и вскоре они стали известны всей стране. Эффект, как и с "договором Джея", был потрясающий. Все общественное внимание сразу же сфокусировалось на оскорбительном поведение Талейрана и его агентов, названных в депеше "х", "у" и "z". Под таким названием кризис и вошел в историю. Электролизующий эффект поразительных новостей усиливался тем, что они совпали по времени с другим известием - о январском 1796 года указе Директории конфисковать все американские суда, имеющие английские товары на борту.
Скоро французские каперы, преступавшие и эти широкие права, действовали уже в виду американских берегов у Лонг - Айленда и в заливе Делавэр.
Франция отчасти из-за опрометчивых действий своих дипломатов от Женэ до Талейрана предстала зловещей силой, нагло диктующей американцам свои условия. Так ее и изображали в газетах - в образе устрашающего пятиглавого (по числу членов Директории) чудовища, протянувшего к Америке окровавленные лапы и злобно рыкающего: "Денег, денег!" Светлый облик "великодушного союзника был давно забыт, а исподволь копившееся недовольство французской политикой вылилось теперь в открытую антифранцузскую истерию.
Партии поменялись местами, и теперь уже федералисты пожинали плоды своего давнего крестового похода против революционной франции. Резкая смена общественных настроений сделала их героями дня, защитниками интересов страны от иностранного агрессора и его внутренних приспешников. Дело "xyz", по словам Джефферсона, "было для них настоящим даром небес, и они выжали из него все". Федералисты подстегивали и без того распалившуюся горячку воинственного шовинизма. Гамильтон строчил гневные статьи, в которых клеймил Францию и ее "пятую колонну" - республиканцев-якобинцев. Красок он не жалел: "Как пророк Магомет, тираны Франции рвутся вперед с алкораном в одной руке и мечом в другой, унижая, покоряя, обращая в свою веру". Федералистская пресса запугивала французским вторжением и внутренней изменой. Был объявлен и состав будущей американской Директории, которую-де "принесут на штыках" французы: Джефферсон, Мэдисон, Монро, Бэрр.
Даже рассудительный Вашингтон верил в то, что французское нашествие, если оно состоится, будет поддержано "якобинским восстанием" внутри страны с целью низвержения федералистского государства. Приватно он называл республиканцев "проклятием страны". Адаме вдохновенно отвечал на шапкозакидательские петиции и напутствовал с балкона толпы, марширующие под звуки марша "Адаме и Свобода": "К оружию, мои молодые друзья, к оружию!" Президента пьянила собственная внезапно подскочившая популярность. Даже отборная ругань республиканской прессы в адрес "старого, сварливого, лысого, слепого, беззубого калеки Адамса", казалось, только придавала ему сил. "Истинные патриоты" нацепили черные кокарды и ленты (знак федерации) и избивали республиканских любителей трехцветных кокард.
Для республиканцев наступили тяжелые дни. "Искусная интерпретация депеш федералистами, - сетовал Джефферсон в письме Мэдисону, - нанесла такой удар по настроениям республиканцев, какого не было со времен завоевания независимости". Виня во всем Талейрана, вице-президент по-прежнему считал, что Директория не хочет войны и главным препятствием на пути урегулирования остается воинственная позиция Адамса и его "ястребов". В то же время он опасался, что в новой обстановке колеблющиеся республиканцы могут поддержать военную программу федералистов, дабы "смыть с себя пятно сторонников Франции".
Так оно и получилось. Под давлением кризиса жесткая оборона республиканцев в конгрессе оказалась прорванной. Что можно было противопоставить популярному лозунгу федералистов "Миллионы на оборону, ни цента для дани"? "В этой обстановке, - резюмировал в конце апреля Джефферсон, - они проведут все, что хотят". До конца сессии конгресс принял целую серию чрезвычайных законов: отмена действующих договоров с Францией и прекращение торговли с ней, увеличение до 20 тысяч регулярной и создание 10-тысячной временной армии, строительство фрегатов и учреждение военно-морского министерства, разрешение захвата французских каперов, 5-миллионный заем правительству, 2-миллионный прямой налог на дома и рабов, репрессивные законы "Об иностранцах" и "О подстрекательстве к мятежу".
Федералисты подвели страну к порогу войны, но не могли решиться на последний шаг - ее официальное объявление. Многие из наиболее рьяных домогались этого как панацеи. "Мы должны объявить войну, чтобы республиканцы вновь не обрели почву, утраченную после дела "xyz", - считал Сэджвик. "Ничто, кроме открытой войны не может спасти нас, - доказывал С. Хигинсон, - и чем серьезней и кровопролитней она будет, тем больше наши шансы на безопасность в будущем". Но Гамильтон сумел сдержать их - если и быть войне, то пусть Франция выступит первой. Реализм еще не изменил ему.
Но какую же роль собирался играть в этих многообещающих коллизиях сам Гамильтон? В апреле он отказался от места сенатора, предложенного губернатором Нью - Йорка Джеем. На примете было кое-что поинтересней. Вновь создаваемой армии потребуется руководство, и уже в мае он пишет откровенное письмо ее наиболее вероятному командующему - Вашингтону: "Если мне предложат пост, на котором мой вклад будет стоить тех жертв, которые придется принести, я охотно пойду в армию". Таким постом, поясняет он, может быть только должность генерал - инспектора, заместителя главнокомандующего.
2 июля конгресс одобрил предложение Адамса поставить во главе армии Вашингтона в звании генерал-лейтенанта. Гамильтон торжествовал: Вашингтон слишком стар, реальным командующим будет генерал-инспектор. Это понимал и Адаме и потому предложил на этот пост старших по рангу - генералов Нокса и Линкольна. Но кабинет и сам Вашингтон твердо стояли за полковника Гамильтона. Для начала главнокомандующий послал президенту терпеливое разъяснение, в котором дал свою самую известную оценку бывшего адъютанта. "Некоторые считают его честолюбивым и потому опасным. То, что он честолюбив, я вполне признаю, но это честолюбие похвального толка, заставляющее человека добиваться превосходства во всем, за что он берется. Он очень деятелен, обладает быстрым умом и великолепной интуитивной способностью находить правильные решения - качества, необходимые для человека военного... Его потеря была бы невозместимой".
Адамс встал на дыбы и только второе письмо-ультиматум Вашингтона с угрозой отставки заставило президента подчиниться. "Вы впихнули его мне в глотку!" - в бешенстве начертал он в ответ. Итак, Гамильтон получил генеральские эполеты и вошел в состав кабинета, фактически узурпировав обязанности Макгенри. В новой, с иголочки, форме он был просто неотразим, этот моложавый, безукоризненной выправки генерал Гамильтон. Что касается роста, то ведь и Бонапарт был невысок. Заветная мечта исполнилась. Но что дальше? Какие планы вынашивал глава федералистов?
Они были грандиозны, как никогда. Перспектива войны с Францией открывала немыслимые доселе внешнеполитические перспективы: тесное сближение с Англией, совместный захват испанских владений в Америке. Еще в январе Гамильтон дал Р. Кингу инструкцию прозондировать у премьер-министра Питта возможность взаимодействия английского флота и американской армии в освобождении Северной и Южной Америки от испанцев. "Обе Флориды должны быть наши, - заявил Гамильтон, - а англичане могут получить южноамериканские владения Испании".
Эта идея нашла еще одного неожиданного сторонника - известного латиноамериканского революционера Франциско де Миранда. Он посвятил всю свою жизнь делу изгнания испанских колонизаторов и находился тогда в эмиграции в Лондоне. Миранда знал и ценил Гамильтона как человека широкого размаха. За полмесяца до Кинга Миранда предложил ту же идею Питту, который выслушал его с интересом.
Странный складывался треугольник: Миранда - Кинг, за которым стоял Гамильтон, - Питт. В нем причудливо сплетались устремления трех выдающихся людей своего времени: страстное желание освобождения родины, дерзкие мечты о военной славе и хладнокровный захватнический расчет. В конечном итоге эти устремления доказали свою принципиальную несовместимость.
Замысел англо-американского союза против Франции уже со времени заключения "договора Джея" Питт хранил в запасе. Теперь новая обстановка и появление на авансцене Миранды и Кинга побудило премьер-министра выдвинуть его на передний план. В начале июля английский посол в США Р.Листон получил из Лондона инструкцию по поводу предварительных переговоров с США о союзе и совместных военных действиях. Они предусматривали завоевание Флориды и Луизианы американцами, Санто-Доминго - англичанами; главной ударной силой должен был стать королевский флот, усиленный американскими матросами. В конце июля Листон сделал формальное предложение о союзе Пикерингу, а затем и лично президенту Адамсу.
В отличие от ярого англофила Пикеринга, Гамильтон настороженно отнесся к английским предложениям. Он был еще в достаточной степени реалистом, чтобы понимать всю трудность заключения открытого союза с Англией в условиях растущих изоляционистских и нейтралистских настроений. Беспокоило его и стремление Англии оставить за собой военный контроль. Но это были проблемы, поддающиеся урегулированию. Главное заключалось в том, что наконец-то складывались благоприятные условия для осуществления гигантской военной операции, захватившей воображение Гамильтона.
Удар по испанской колониальной империи - здесь был ключ к установлению господства США над южной оконечностью Северной Америки, а затем и над всем Западным полушарием. "Мы непременно должны иметь в виду захват Флориды и Луизианы, а также присматриваться к Южной Америке", - рассуждал Гамильтон. Смутные мечты первых американских экспансионистов, выраженные им еще в "Федералисте", облекались в плоть и кровь конкретных военно-стратегических замыслов, и осуществить их, конечно же, призван был он, Александр Гамильтон.
Пусть американская армия еще невелика, но и силы испанцев на исходе: в Луизиане всего тысяча солдат, и разве не завоевал Писарро полконтинента всего с 300 конкистадорами? Было от чего закружиться голове человека, с детских лет убежденного в том, что его ждет слава великого полководца. Как зачарованный, следил он за небывалыми победами молодого Бонапарта, этого "непревзойденного завоевателя, от дел которого трудно оторваться!" Полководческий гений Бонапарта покорил всю Европу, но Новый Свет еще только ждал своего завоевателя. Захватническая война будет прибыльным предприятием и скоро станет популярной в стране; с ним снова Вашингтон, который осенит ее, а заодно и Гамильтона своим авторитетом. Как и на заре юности, Гамильтон готов сказать: "Хочу, чтобы была война".
Постепенно он настолько свыкся с этой мыслью, что еще до своего назначения генерал - инспектором самонадеянно заверил Миранду: "Командование, естественно, падет на меня, и я надеюсь, что не обману ожиданий". Но авантюризм Гамильтона имеет свои границы: "Я смогу принять в войне личное участие только при условии поддержки правительства моей страны".
Окончательно утвердило Гамильтона в его намерении очередное изменение в соотношении сил в Европе: разгром французского флота Нельсоном в Абукирском заливе 1 августа 1798 г., после которого армия Бонапарта оказалась запертой в Египте, складывание второй антифранцузской коалиции в составе Англии, Австрии, России и Турции. Франция уже не казалась столь всемогущей. Через Кинга и кабинет Гамильтон усиливает нажим на Адамса, которого теперь бомбардируют предложениями о военном союзе с Англией сразу с трех сторон: английский посол, Кинг и Пикеринг. Президент дал понять, что пойдет на такой союз лишь в случае действительной войны с Францией.
Одновременно генерал-инспектор приступает к непосредственному планированию военной операции. Он ввел в курс дела командующего западным гарнизоном генерала Д. Уилкинсона, но сразу же выявились и препятствия: до объявления войны Франции Вашингтон не разрешил Гамильтону даже подтянуть гарнизон Уилкинсона к испанской границе у местечка Нэтчез. Опять война с Францией... Все упиралось в это. И Гамильтон, прежде сдерживавший своих более агрессивных коллег, теперь сам постепенно склоняется к ней. Мираж близкой славы великого полководца начинает ослеплять его, застилать глаза, теряющие былую зоркость реалистического видения. Стране посылается "благородное знамение", "великая судьба", пишет он в октябре Кингу, "мы, бесспорно, должны пойти на открытый разрыв с Францией".
Поскольку все силы Франции были брошены на борьбу с Англией, Гамильтон надеялся, что разрыв этот не обернется большой франко-американской войной, а лишь предоставит Соединенным Штатам желанный предлог для удара по испанским владениям. "Если мы ввяжемся в войну, - пишет он в декабре генералу Дж. Ганну, - наша задача сведется к тому, чтобы напасть там, где мы можем. Францию нельзя рассматривать отдельно от ее союзников (т. е. Испании с ее владениями в Америке. - В. П.). Соблазнительные цели будут у нас под рукой". В январе следующего года он инструктирует федералистского конгрессмена Гаррисона Отиса относительно необходимости провести законопроект, устанавливающий крайний срок урегулирования отношений с Францией - 1 августа 1799 г. Затем должно последовать объявление войны Франции и Испании.
Бонапартистские замыслы Гамильтона кажутся игрой эксцентричного ума, однако они имеют вполне материальное содержание: установление господства американского и английского торгового капитала в Западном полушарии. Внешнеторговый тоннаж США к 1800 году составлял около половины английского, и значительная часть торговцев северо-востока была не прочь занять положение полноправного партнера в англо-американской торговой системе. Джордж Кэбот, лидер оплота федералистской партии - массачусетской "хунты", так расшифровал меркантилистскую подоплеку вынашиваемых планов: "Я абсолютно убежден, что Великобритания в сотрудничестве с нами может господствовать на море в противовес всей Европе, за исключением одной России. Если война продлится еще несколько лет, наши страны получат исключительное право торговли во всей Америке, Африке и лучшей части Европы и Азии, а колонии и союзники Франции, подчиняясь необходимости, будут принимать торговые суда тех, кто в состоянии удовлетворить их нужды". За мечом романтика войны последовали бы алчные торговцы.
Привлекательность латиноамериканского проекта для крайних федералистов усиливало и то, что пользующаяся в стране популярностью война за новые территории усилила бы позиции "партии войны" и дала бы ей возможность удушить оппозицию. Ура-патриотический угар не мог продолжаться долго в условиях мира. "Всеобщий энтузиазм и единство всей страны", предупреждал Гамильтона Кинг, не сохраняется без "какой-нибудь значительной цели, которая захватила бы народ". "Развязывайте войну, называя ее самообороной, - наставлял Пикеринга Эймс, - твердите гражданам об опасности и постепенно подводите их к войне".
Еще летом 1798 года на гребне шовинистической истерии были приняты репрессивные законы "Об иностранцах" и "О подстрекательстве к мятежу". Первый был направлен против французов, проживающих в США. Таких насчитывалось около 30 тысяч, в массе своей республиканцев. Он давал президенту в мирное время право высылки любого из них по одному подозрению в "антигосударственной деятельности" и устанавливал жесткую систему периодической регистрации всех иностранцев. Закон "О подстрекательстве к мятежу" карал тюрьмой и штрафом любые организованные попытки противодействия властям, а также лиц, виновных в "скандальных или угрожающих" заявлениях в адрес государственных деятелей: президента, министров, членов конгресса. Он ставил вне закона практически любую оппозицию, попирал билль о правах и ударял прежде всего по республиканской прессе. По символическому совпадению он был принят 4 июля - в день независимости, что дало федералистам возможность связать его с автором исторической декларации. На своем юбилейном митинге в Нью - Йорке они пили за нового Самсона - "Джона Адамса - да побей он тысячу французов именем Джефферсона!"
Гамильтон не был инициатором этих мер, но полностью одобрил их после принятия, требуя лишь особого подхода к иностранцам "хорошего поведения" и предостерегая против ненужной жестокости. Его экстремизм лежал глубже. Заткнуть рот оппозиции недостаточно, это лишь наркоз, а нужна серьезная хирургическая операция - реформа государственного устройства, которая бы навсегда гарантировала общество от подобных рецидивов фракционности и дисубординации.
К этому мнению Гамильтон пришел в конце 1798 года - после того, как легислатуры Вирджинии и Кентукки объявили репрессивные законы неконституционными, а Вирджиния стала усиливать ополчение на случай возможной военной угрозы со стороны северо-восточных штатов. В письме спикеру палаты Дэйтону, написанном в начале 1799 года, он предлагал ужесточить судебную систему и репрессивные законы, разделить большие штаты на малые округа, иначе "они всегда будут соперничать с общей главой, пускаться в махинации против нее и в иных случаях могут добиться успеха". Эта стрела явно целила в сердце республиканизма - Вирджинию. Вскоре Гамильтон писал Сэджвику, что, не колеблясь, использует регулярную армию, чтобы "подавить непокоренный и могущественный штат".
Судя по этим наметкам, Гамильтон был готов пойти далеко, и кто знает, где бы он остановился? Истощенный десятилетней ожесточенной политической борьбой, утративший всякую надежду на общественное признание и законный путь к высшей власти, он, казалось, получил, наконец, последний шанс в виде кризисной ситуации, открывавшей новые возможности. Гамильтон не скрывал своего недовольства конституцией. "Можно ли было ожидать, - спрашивает Д. Адэр, автор этюдов о Гамильтоне, - что он смог бы устоять от соблазна "реформировать" ее силой в чрезвычайной обстановке воспламенившегося военного кризиса 1799 года..? Разве не был Александр Гамильтон единственным из ведущих отцов-основателей, обладавшим стремлением, волей и способностями к политике цезаризма, который почти создал для себя возможность испробовать роль, успешно сыгранную его современником Наполеоном?" Вот именно - "почти". Слишком жесткие пределы ставила действительность тому насилию над историей, которое задумал Александр Гамильтон.
* * *
Все планы крайних федералистов зиждились на войне или во всяком случае сохранении крайней напряженности в отношениях с Францией. Только этим можно было оправдать наращивание армии, налогов, чрезвычайное законодательство. И вот эта опора их замыслов зашаталась: Франция все меньше "подыгрывала" федералистам. Скандал "xyz" и последовавшая вслед за ним военная мобилизация встревожили Талейрана и Директорию. Талейран поспешил уйти в тень, свалив вину за обострение отношений на анонимных провокаторов и самих американских посланников - "упрямых и неуклюжих людей", но это мало что меняло. Американцы готовились к войне.
Летом - осенью 1798 года на воду были спущены первые фрегаты - "Юнайтед Стейтс", "Констелейшн", "Конститьюшн", намного превосходившие размерами и вооружением крупнейшие французские корабли. Строились и суда помельче, вооружались торговцы. Скоро молодой флот показал свою силу. К зиме прибрежные воды были очищены от французских каперов, значительная их часть захвачена, а в большом морском бою у острова Невис "Констелейшн" пленил "Инсургента" - один из лучших фрегатов французского флота. Необъявленная "квазивойна", как ее нарекли, оборачивалась явно не в пользу Франции. К тому же она мешала ввозу из США продовольствия и других товаров, в которых по-прежнему нуждалась сама Франция и ее колонии в Вест - Индии. Все это вместе с возросшей опасностью англо-американского союза вынуждало Талейрана к большей осторожности в отношениях с заокеанской республикой.
В конце июля Директория по его совету прекратила каперство в Вест - Индии. Используя оставшегося в Париже члена американской дипломатической миссии Джерри, посланника США в Гааге Уильяма Меррея и другие косвенные каналы, Талейран начал склонять Адамса к мирному урегулированию.
В то же время сближение с Англией наталкивалось на серьезные препятствия. В военном отношении оно зашло довольно далеко: англичане поставили для борьбы с Францией пушки, стрелковое оружие, боеприпасы, конвоировали американские торговые суда в Атлантике, защищая их от французских каперов. Но притеснения американской торговли с Францией и ее колониями продолжались, так же как и насильственный захват американских матросов для службы в королевском флоте. Как-то один ретивый английский капитан даже снял пятерых якобы беглых английских матросов с американского военного корабля "Балтимор". Правительство США было бессильно помешать этому, поскольку флот его величества господствовал на море и составлял передовую линию обороны в морской войне с Францией.
Не менее серьезные преграды планам федералистов постепенно вырастали и в самих США. При всем разгуле националистических эмоций страна вовсе не хотела воевать. В конечном счете кризис "xyz" привел лишь к ликвидации профранцузского крена в общественных настроениях и возобладанию стремления к "равноудаленности" США от Франции и Англии. Чрезвычайные законы не оправдали себя: дав пищу республиканской пропаганде, они в то же время не сумели парализовать оппозицию. Тогдашний карательный аппарат государства был слишком неуклюж и маломощен, а сопротивление им слишком велико для того, чтобы обеспечить исполнение драконовского законодательства. Закон "Об иностранцах" практически не применялся, хотя тысячи французов сочли за благо покинуть США по собственной инициативе.
По закону "О подстрекательстве к мятежу" было вынесено всего 17 приговоров, но и те в большинстве своем обернулись в общественном мнении против самих гонителей. Были осуждены также несколько редакторов ведущих республиканских газет, а главный объект преследований - редактор филадельфийской "Авроры" Б. Раше умер перед самым процессом. Но их преемники упрямо продолжали войну с администрацией. Осужденные превратились в мучеников. М. Лайен, единственный республиканский конгрессмен, упрятанный на четыре месяца за решетку, руководил оттуда своей избирательной кампанией и был с триумфом переизбран в конгресс.
Даже курьезы, случавшиеся ввиду особого служебного рвения некоторых федералистских судей, играли на руку республиканцам. В Дэдхеме (Массачусетс) местные блюстители порядка осудили нескольких человек за установку "шестов свободы" - старых революционных символов, сочтенных теперь "деревянными божками мятежа". В Ньюарке (Нью - Джерси) некоего Болдуина привлекли к суду только за то, что он при виде президентского экипажа и салютующих гвардейцев произнес: "Вот едет президент, а они стреляют ему в зад". Дело получило большую огласку, и республиканские газеты долго склоняли на все лады вышеупомянутую часть тела президента, утверждая свое право на свободу слова.
При всей шумихе вокруг чрезвычайных законов отнюдь не они, непосредственно затронувшие лишь узкий круг людей, сыграли решающую роль в подъеме антиправительственных настроений. Содержание большой постоянной армии и усиление налогового бремени для выполнения военной программы федералистов - вот что било по каждому рядовому американцу. К 1799 году федеральный бюджет вырос почти в два раза по сравнению с 1796 годом в основном за счет военных расходов. Новый налог на дома и рабов охватил практически всех землевладельцев и значительную часть городского населения. Налоги вообще плохо приживались в стране, а тем более поборы на содержание армии, которой не с кем было воевать.
Как и во время "бунта из-за виски", сбор нового налога опять встретил сопротивление в Пенсильвании, но уже не со стороны анархистов - пионеров, а обычно законопослушных немецких фермеров. То был плохой признак для федералистов. Партия торговцев в аграрной Америке могла преобладать, только опираясь на фермерство прибрежных районов, занятое производством экспортной продукции. Теперь и эта опора начинала трещать.
В начале марта группа вооруженных фермеров под руководством аукционера Фрайса освободила из тюрьмы в Бетегейме нескольких злостных неплательщиков налогов. Операция вошла в историю под названием "бунта Фрайса". Гамильтон вновь поспешил использовать этот случай для демонстрации беспощадности государства в полном подавлении любого социального протеста. Он предупредил Макгенри об опасности "превращения бунта в восстание в результате первоначального применения недостаточной силы". Лучше перебрать в другом направлении: "Где бы ни появилось государство с оружием в руках, оно должно представать Геркулесом и внушать уважение демонстрацией силы".
Регулярные части, как и следовало ожидать, легко управились с бунтовщиками. Фрайс и его помощники были приговорены к смертной казни за государственную измену. Впечатление триумфа карающей десницы государства несколько смазал президент. Несмотря на требования Гамильтона и кабинета дать "необходимый урок ради безопасности государства", Адаме помиловал осужденных.
Все новые поборы неумолимо гасили и без того ослабевающий с каждым месяцем воинственный дух. Набор в армию застопорился, в ней оказалось больше офицеров-федералистов, чем солдат. В начале 1799 года генерал-инспектор оставил юридическую практику и занялся исключительно армией. Для Гамильтона вновь наступил период лихорадочной активности. Он увлеченно вникал во все: тактику и организацию, обучение личного состава, вопросы снабжения, лично следил за набором и даже придумывал новую военную форму. Но и эти его огромные усилия не спасли положения - временная армия по-прежнему существовала в основном на бумаге. Вся военная программа федералистов, проскочившая через конгресс в момент скоротечного всеобщего возмущения действиями Франции, повисла в воздухе.
Мало кто понимал суть происходящего так отчетливо, как Джефферсон. Философ-стоик, бесстрастно взирающий с заоблачных высот чистого разума на разгул политической истерии, - таким он хотел казаться себе и другим в это тяжелое время. "Сейчас, когда кипят все страсти, - пишет он 9 мая Д. Льюису - младшему, - тот, кто сохраняет хладнокровие и не поддается заразе, настолько выпадает из общего тона, что в любом обществе оказывается в изоляции". По преданию, он находил прибежище лишь в научных кругах филадельфийского "философского общества", избравшего его своим председателем. "Я сменил свое здешнее окружение в соответствии с желанием, - пишет он дочери, - оставил богачей со всеми их обедами и приемами, общаясь исключительно с людьми науки". В действительности, и в мыслях, и в делах своих он был гораздо больше подвержен "политическим страстям", нежели хотел признаться даже самому себе. Вице-президент не только внимательнейшим образом анализировал ситуацию, но и активно вмешивался в нее. Изо всех сил стремясь предотвратить назревавшую войну с Францией, он решился на крайний шаг. Через посланца Талейрана и своего давнего знакомого Виктора Дюпона, которого Адаме отказался принять, Джефферсон не только растолковал французам всю близорукость их политики, толкающей США к союзу с Англией, но и раскрыл военные планы федералистов в отношении испанских владений, державшиеся в секрете даже от конгресса. Тем самым вице - президент авторитетно подтвердил худшие опасения Талейрана и укрепил его в намерениии пойти на мировую с американцами. Джефферсон, разумеется, действовал из лучших побуждений, считая, что цель оправдывает средства, как и Гамильтон 3 года назад во время переговоров с англичанами, но е го бибграфы недаром до сих пор обходят этот эпизод стороной.
Не была для него загадкой и внутренняя подоплека планов федералистов. Подавление оппозиции, увеличение налогов, разбухание военной машины, возможный союз с Англией - все это представлялось логическими ступенями деградации республиканского правления, перестройки его на английский манер. На этот раз в своем ортодоксальном предвидении Джефферсон был ближе к истине, чем когда бы то ни было. Больше всего его убедили в этом чрезвычайные законы - "отвратительное явление, достойное VIII или IX века", как писал он Мэдисону. Решительное проведение их в жизнь означало бы конец всякой оппозиции и могло проложить пути трансформации республиканского строя. Не случайно именно эти законы толкнули Джефферсона на самый энергичный его шаг как лидера оппозиции. Речь идет о знаменитых резолюциях Кентукки и Вирджинии.
Весть о принятии чрезвычайных законов застала вице-президента на отдыхе в Монтичелло. Должно быть, он немало передумал, прежде чем решиться действовать. Открытый личный протест был бы слишком опасен, да и не в характере Джефферсона - можно чего доброго и самому угодить в тюрьму за подстрекательство к мятежу, как случилось с беднягой-редактором У. Дюаном, ордер на арест которого пришлось подписать собственной рукой. Парламентские методы оказались недостаточными. Исполнительная и судебная власть также в руках федералистов. Что же можно противопоставить диктату федерального правительства? Ответ напрашивался сам собой - власть и права штатов. В августе Джефферсон составил проект резолюции против чрезвычайных законов, который сначала предназначался для Северной Каролины, а затем был переадресован в соседний Кентукки. Лидер местных республиканцев Д. Брекенридж внес его от своего имени, и в начале ноября резолюция была принята легислатурой. Подлинное авторство документа хранилось в глубокой тайне и стало известно только много лет спустя.
Резолюция исходила из договорной теории происхождения союза. Его создатели - штаты - объявлялись главными арбитрами, следящими за соблюдением конституции, правомочными как выявлять превышение федеральной властью своих обозначенных полномочий, так и "определять способы устранения этих нарушений". В данном случае расширенное толкование суверенитета штатов служило защите демократических прав, но нетрудно заметить, что в своем логическом развитии эта доктрина приводила к противопоставлению центральной власти штатам и, вполне возможно, к расколу федерации.
Такое развитие предусматривалось и самим Джефферсоном в тексте резолюции. Она наделяла каждый штат "естественным правом... аннулировать своей властью" любые федеральные законы, противоречащие, по их мнению, конституции. Это означало бы открытый вызов федеральной власти, поэтому Брекенридж и его коллеги поспешили изъять из проекта соответствующий абзац и сам термин "нуллификация" ("аннулирование"). В принятой резолюции осталось доказательство неконституционности чрезвычайных законов и призыв к их отмене конгрессом, однако на следующий год в новой резолюции Кентукки открыто воззвал к "нуллификации".
Как следует из сравнительно недавно обнаруженного письма Мэдисону, написанного Джефферсоном в августе 1799 года, гипотетически он допускал возможность отделения от союза, "столь ценимого нами", ради сохранения прав самоуправления, которые "мы так берегли и в которых видим залог свободы, безопасности и счастья". Но это редчайший пример такого рода, результат свойственного Джефферсону "умозрительного" экстремизма, от проявления которого на практике его надежно хранило не только сдерживающее влияние соратников, но и собственный инстинкт умеренности.
В октябре 1798 года в Монтичелло Джефферсон обсуждал с Мэдисоном план действий, и последний, по-видимому, предостерег его от крайностей, ибо сходная резолюция, составленная Мэдисоном и принятая легислатурой Вирджинии, была гораздо сдержаннее джефферсоновской.
Через несколько десятилетий развитая до крайних пределов доктрина прав штатов и "нуллификации" стала знаменем рабовладельческого Юга в борьбе с промышленным Севером за сохранение рабства. И по сей день она состоит на вооружении реакционеров всех мастей для противодействия либеральному законодательству, которое трудящиеся вырывают у федерального правительства. Такова историческая метаморфоза этого принципа, к которой Джефферсон, разумеется, не причастен.
Тогда, в горячке борьбы за существование партии, его заботили не столько доктринальные нюансы, сколько непосредственный политический эффект резолюций. В быстро меняющейся обстановке он вовсе не хотел связывать себя жесткими путами догматизма. Хотя Джефферсон и писал Мэдисону в ноябре, что следует придерживаться принципов этих резолюций, он вместе с тем предупреждал: "Нужно оставить все в таком состоянии, чтобы мы не были абсолютно обязаны доводить их до крайности и в то же время были свободными в их использовании в зависимости от обстановки".
Резонанс резолюций оказался скромнее, чем ожидалось. Ни один штат не поддержал Вирджинию и Кентукки, движение за отмену чрезвычайных законов не достигло своей цели. Весь арсенал средств партийной борьбы был, казалось, исчерпан. Но Джефферсон не впадал в отчаяние. Скрупулезный анализ ситуации убедил его в том, что на стороне республиканцев самый верный союзник - время. Политическая истерия, вспыхнувшая после скандала "xyz" ("болезнь воображения", как называл ее Джефферсон), скоро пройдет, писал он Тэйлору, "и врач уже находится на пути к больному в обличье налогового инспектора". Он давно ждал и много раз предсказывал, что демократический инстинкт народа должен поднять его против федералистов, но никогда еще его вера в республиканские добродетели не имела под собой столь прочного фундамента.
Джефферсон самым тщательным образом подсчитывает рост военных расходов и налогов, справедливо усматривая в этой простой арифметике ключ к разгадке сложных социальных хитросплетений. "Кошелек - вот главное вместилище чувствительности народа, - пишет этот знаток народных чаяний в конце сентября А. Роуэну. - Его вытряхнут как следует, и тогда народ прислушается к истине, которая иначе никак не доходит до него". Несколько позже в письме Монро он привел все факторы, действующие против федералистов: "чрезвычайные законы, прямой налог, дополнительная армия и военно-морской флот, ростовщический заем для осуществления этих безумств, перспектива дальнейшего увеличения налогов... вербовщики, слоняющиеся по дворам и отрывающие работника от его плуга". Поэтому "немного терпения, - успокаивал он Тэйлора, - и мы увидим конец правления ведьм, рассеивание их чар и народ, вновь обретший здравый смысл, возвращающий государство к его истинным принципам".
Отсюда - тактические рецепты: федералисты сами роют себе могилу, не нужно им мешать; лучше всего - спокойное выжидание и осторожное подталкивание событий путем просвещения народа. Силы партий после выборов 1796 года примерно равны, понимал Джефферсон, одного Юга недостаточно, чтобы свалить федералистов. Ключевое значение имели густонаселенные центральные штаты, в первую очередь Пенсильвания. Поэтому главное - не делать грубых ошибок, избегать крайних мер, которые могут остановить намечающееся изменение в соотношении сил. "Всякое поспешное или угрожающее действие может нарушить благоприятное расположение срединных штатов и объединить их в принятии мер, губительных для нас", - делится он с Мэдисоном в январе 1799 года.
Джефферсон мыслит как партийный лидер, жертвующий доктринальной чистотой во имя прагматической цели - сколачивания коалиции большинства. Этого никогда не умел Гамильтон. Поэтому вице-президент сдерживает своих рьяных коллег по партии вроде Тэйлора, призывающих к отделению южных штатов; поэтому он очень опасается превращения локальных волнений в вооруженные бунты. "Любое подобное насилие, - пишет он Э. Пендлтону после начала бунта Фрайса, - остановит благоприятное развитие общественного мнения и сплотит народ вокруг государства. Это не та оппозиция, какую приемлет американский народ. Устраните угрозу силы, и они изживут порочные методы правления с помощью конституционных методов выборов и петиций".
Но Джефферсон был слишком опытным политиком, чтобы полностью уповать на стихийное пробуждение одурманенного федералистами народа. Процесс этот явно нуждался в стимулировании и руководстве. "Здесь двигателем является пресса. Каждый обязан внести свой вклад кошельком и пером", - внушает он друзьям. С конца 1798 года Джефферсон берет на себя всю работу по координации республиканской пропаганды: заказывает, проверяет и рассылает статьи и памфлеты, организует сбор средств и новые партийные издания. Он черпает надежду в сообщениях о миролюбивом повороте в политике Директории, исходящих от французских друзей - Вольнея, Дюпона, посылает к Талейрану своего гонца - доктора Джорджа Логана. Не часто встречался в истории США такой занятый вице-президент.
На этот раз расчет Джефферсона оказался безошибочным. Но не он один разглядел слабину курса крайних федералистов. Не укрылась она и от президента Адамса. Его расхождения с экстремистами имели к тому времени уже свою историю.
Первым по порядку и значению яблоком раздора стала армия. При всех своих воинственных кличах Адаме как истый республиканец с самого начала противился созданию большой постоянной сухопутной армии. Другое дело - морской флот, не несущий угрозы военного деспотизма. "Я всегда требовал, - вспоминал он впоследствии, - "кораблей, кораблей!", А коньком Гамильтона было - "войск, войск!" Армия пала еще ниже в глазах Адамса, когда оказалась под началом Гамильтона. Последней надеждой президента было использовать ее как кормушку для своих потенциальных сторонников из числа ^колеблющихся республиканцев в ключевых штатах - Нью - Йорке и Пенсильвании. Но командующий и его заместитель допускали в армию только правоверных федералистов, и кандидатуры, предложенные Адамсом на высокие командные посты, были категорически отвергнуты. Собственное бессилие приводило президента в ярость. Легко ли было самолюбивому Адамсу ощущать себя "всего лишь вице-королем при Вашингтоне, который в свою очередь был вице-королем при Гамильтоне!"
По мере того как армия превращалась в тяжелое для народа бремя, а ее назначение становилось все более неопределенным ("Вероятность встречи с французской армией на суше не больше, чем на небесах", - ворчал президент), Адаме переходил к открытому бойкоту всей военной программы. Не хуже Джефферсона он понимал, что военные расходы "подрывают авторитет правительства больше, чем все другие его акты". "Эта проклятая армия будет погибелью для страны!" - кричал он на Уолкота. Адаме сделал все от него зависящее, чтобы оттянуть набор во временную армию до весны 1799 года, а к тому времени никто уже не хотел воевать.
Некоторые историки до сих пор объясняют этот зигзаг Адамса его интуитивной ненавистью к Гамильтону. На деле мотивы и действия президента были куда более рациональными. Он быстрее и раньше крайних федералистов понял, что план Гамильтона в худшем случае грозит ввергнуть страну в пучину гражданской войны, а в лучшем - подготовить крах федералистской партии. Адамс не просто мстил Гамильтону, но и спасал свою политическую карьеру, стремясь создать опору из умеренных обеих партий, которая бы вынесла его к президентскому креслу на следующих выборах. К осени 1798 года в руках у Адамса оказался важный козырь - он удостоверился, что войны с Францией не будет.
Первое надежное заверение в миролюбивых намерениях Директории он получил от Джерри, вернувшегося в США в начале октября. Федералисты встретили Джерри как предателя, намалевали на его доме кровавую виселицу, но Адаме принял его дружелюбно и внимательно выслушал. Позднее он писал, что Джерри "спас страну для мира".
Об искренности поворота Талейрана сообщали и другие источники, например сыновья президента, находившиеся на дипломатической службе, Меррей и др.; они же советовали послать в Париж новую миссию. Кабинет и слышать не хотел об этом, требуя заведомо невозможного - чтобы Франция первой прислала своих послов. Пути Адамса и крайних федералистов расходились все дальше: те становились все агрессивнее, в отчаянии пытаясь хвататься за соломинку войны, а президент с каждым днем все больше склонялся к миру. Когда Адамс прослышал о плане Гамильтона наделить президента полномочиями объявлять войну без согласия конгресса, его негодованию не было предела. "Из нас двоих кто-то определенно рехнулся, - возмущался Адаме в письме жене. - Он не имеет понятия о характере, принципах, мнениях и предрассудках этой страны. Если конгресс согласится с таким планом, это приведет к восстанию всю страну от Вирджинии до Нью-Гемпшира. Не нравится мне эта храбрость, которая растет по мере уменьшения опасности".
В декабрьском послании конгрессу президент оставил дверь для переговоров открытой, подтвердив свои прежние условия: миссия будет послана только после получения гарантий ее достойного приема. Адамс еще не знал, что такие гарантии уже даны и плывут в Америку. Это было письмо Меррея с приложением послания Талейрана французскому послу в Гааге Л. Пишону. В нем Талейран, цитируя собственные слова Адамса, заверял, что американские послы будут приняты как представители "свободного, независимого и могущественного государства".
Адамс получил письмо Меррея в начале февраля - почти одновременно с конфиденциальным посланием Вашингтона, в котором тот осторожно напоминал о том, что "американский народ жаждет мира". Адамс понял, что Вашингтон не будет противиться проведению переговоров. Заручившись молчаливым согласием главнокомандующего и полуофициальными гарантиями Франции, президент почувствовал себя хозяином положения и принял самое важное в своей жизни решение: 18 февраля он без уведомления кабинета передал в конгресс письмо Талейрана Пишону и объявил о назначении Меррея послом на переговоры с Францией.
Джефферсон, как президент верхней палаты зачитывавший послание президента в сенате, едва не выронил бумагу из рук от изумления. "Вчера было объявлено о событии событий, - писал он на следующий день Пендлтону. - Что бы ни случилось дальше, решение президента обрекает на провал любые усилия, направленные к войне". Крайних федералистов, несмотря на все предшествующие ему симптомы, решение Адамса также застало врасплох. Столь вопиющего самоуправства от него не ожидали.
Как и Джефферсон, они прекрасно понимали значение происшедшего - Адамс заложил мину под самый фундамент всей их программы. "Трудно представить более разрушительный и ошеломляющий шаг", - писал Гамильтону Сэджвик. "Удивлению, возмущению, скорби и отвращению" не было предела, вспоминал Кэбот. Однако умеренные федералисты в администрации - министр юстиции Ч. Ли и военно-морской министр Стаддерт - поддержали Адамса. Экстремисты с нетерпением ждали инструкций от своего предводителя в Нью-Йорке. Гамильтон посоветовал оказать нажим на президента, а в случае неудачи хотя бы расширить состав миссии за счет надежных федералистов.
Но, как выражалась его верная Абигайль, Адамс был "сделан не из ивы, а из дуба - его можно вырвать с корнем или сломать, но не согнуть". Он пригрозил уйти в отставку и уступить свое место Джефферсону. Сенату удалось лишь дополнительно ввести в состав миссии О. Элсворта и Патрика Генри, замененного потом другим федералистом - У. Дэви.
Только угроза отставки президента предотвратила открытый разрыв между Адамсом и фракцией Гамильтона. Последний, однако, не терял надежды вернуть контроль над положением. Он продолжает переписку с Мирандой и Кингом, бьется над проблемой комплектования армии, пытается с помощью кабинета сорвать или оттянуть отправку миссии во Францию.
Президент после своего решительного демарша надолго удалился в родное поместье Квинси, и Гамильтон начал подталкивать кабинет к самостоятельным действиям. "Если шеф безучастен, - наставляет он Макгенри, - его министры должны быть более едины и решительны в своем плане действий". Наконец, в сентябре, бросив армию, он мчится в Трентон - временную резиденцию правительства на время эпидемии желтой лихорадки в Филадельфии, - чтобы на месте самому руководить действиями кабинета. Там его и застает Адамс, чье возвращение было ускорено тревожными слухами об интригах министров. Последовало тягостное объяснение. Гамильтон долго доказывал нецелесообразность заключения мира с Директорией, пуская в ход последние козыри - нестабильность режима, слухи о готовящейся реставрации Бурбонов, победы Суворова в Италии. Но Адамс стоял, как скала, и, напротив, ускорил отправку послов. В начале ноября они отплыли во Францию. Это был только первый из заключительной серии ударов, нанесенных Гамильтону судьбой.
Следующим стала внезапная кончина Вашингтона в декабре 1799 года. Еще осенью некоторые отчаявшиеся федералисты пытались склонить престарелого генерала к мысли вновь баллотироваться в президенты, но в ответ получили лишь суровое предупреждение: "В то время как поведение антиков отличается твердостью, наши фавориты меняются каждый день... если федералисты будут гоняться за личностями, а не принципами, их дело скоро погибнет". Мудрый совет пропал втуне, и вот Вашингтона не стало, а с ним и спасительного ореола его имени. Для Гамильтона потеря была невосполнима. Только теперь он понял, какое место в его жизни занимал Вашингтон. "Для меня он был защитой и притом чрезвычайно необходимой", - писал он секретарю главнокомандующего. "Не могу выразить, насколько сохранение его доверия и дружбы было бы необходимо для меня в будущем", - признался Гамильтон вдове покойного. Он как будто предвидел последствия будущих крайностей в своем поведении, от которых прежде его нередко ограждало здравомыслие старого патрона. Вопреки процедуре Адаме и не подумал назначать генерал-инспектора на освободившееся место главнокомандующего.
Неуклонно сокращалось и влияние Гамильтона на конгресс. Под воздействием военной горячки федералисты победили на выборах 1798-99 годов, но большую часть "пополнения" составляли новые политики умеренного толка, предпочитавшие сдержанный курс Адамса. По словам Сэджвика, то была "тень федерализма", лишенная прежней "твердости, выдержки и ума". Уже в начале 1800 года конгресс сократил военные расходы и приостановил дальнейший набор в армию. Планы великих завоеваний рушились на глазах нетерпеливого полководца. Страна жаждала спокойствия, а не имперской славы. "Америка, если ей суждено достичь величия, - с горьким сарказмом поведал Гамильтон Сэджвику, - должна будет ползти к нему. Что лее, быть посему. Медленно, но верно - неплохое правило. Улитки - премудрые создания". "У меня смешливое настроение, - мрачно шутил он в письме У. Смиту. - Что еще остается нам в этом лучшем из возможных миров?"
Он казался таким отчаявшимся, что Генри Ли счел нужным утешить его: "Больно видеть вас столь подавленным... Будьте верны себе и боритесь с врагами до победы". Сконфуженный проявлением собственной слабости и не терпящий сочувствия Гамильтон отвечает: "Вы ошибаетесь на мой счет. Поверьте, я далек от отчаяния. Страна слишком молода и сильна, чтобы утратить свое политическое здоровье; что же касается меня, то я стою на таком основании, которое рано или поздно обеспечит мне триумф над всеми врагами. Но покуда я не совсем бесчувствен к той несправедливости, которой время от времени подвергаюсь и жертвой которой стал сейчас. Такая чувствительность, возможно, есть следствие преувеличенной оценки собственных услуг, оказанных Соединенным Штатам. Но в таких случаях каждый судит сам за себя, и если человек подвержен тщеславию, то он должен мириться и с теми горестями, которым оно же подвергает его. Однако, невзирая на собственное недовольство, я ни в коем случае не пойду войной против общественного интереса. Он для меня священен".
И это были не просто слова. При всем своем ожесточении фактический командующий армией Гамильтон не переступает последней роковой грани, за которой начинается измена и государственный переворот. Возможно, это комплимент не столько его принципам, сколько чувству реальности. Во всяком случае Бэрр потом корил его за то, что он упустил такую блестящую возможность "изменить государственный строй". Гамильтон возразил что-то насчет морали. "Великие души не считаются с мелочной моралью", - парировал Бэрр. Но это было бы практически неосуществимо ввиду настроений и обстановки в стране, продолжал Гамильтон. "Здесь все зависит от оценки человеческих страстей и способа влияния на них, - невозмутимо ответствовал Бэрр. - Бонапарт бы не счел такой план узурпации утопическим".
Гамильтон оставался на высоте положения и позднее - в декабре 1800 года, когда поступили вести о заключении нового договора с Францией. Этот договор аннулировал союз 1778 года и предусматривал нормализацию торговых отношений между двумя странами, включая признание прав нейтральной торговли. Пойдя на эти уступки американцам, первый консул Наполеон, сбросивший к тому времени Директорию, рассчитывал вовлечь США в новый "вооруженный нейтралитет", создаваемый североевропейскими странами. Поскольку освободиться от "опутывающего союза" удалось только ценой отказа от требований возместить ущерб, нанесенный действиями Франции американским торговцам, большинство федералистов было против ратификации договора. Гамильтон же понимал, что добиться от Франции большего "при нынешнем состоянии европейских дел и настроений народа" нельзя, и приложил все силы для ратификации соглашения.
Но враги наносили все новые удары. На выборах в нью-йоркскую легислатуру 1 мая Бэрру удалось объединить фракции Ливингстонов и Клинтона и вырвать победу у федералистов. Легислатура избирала выборщиков, и потому победа республиканцев в Нью - Йорке имела огромное значение для исхода президентских выборов. Через три дня Адамс одним ударом расправился с гамильтоновскими министрами - Макгенри и Пикерингом, выведя их из состава кабинета и объявив тем самым открытую войну крайним федералистам. И, наконец, временная армия пришла в такой безнадежный упадок, что 1 июня Гамильтон был вынужден подать в отставку. Это уже походило на катастрофу, и его меланхолия сменилась приступом бешеной ярости. Ослепленный ею, Гамильтон совершает один промах грубее другого.
Он пытается переиграть "битву за Нью - Йорк" и ради этого пишет письмо губернатору Джею с просьбой изменить метод избрания выборщиков: пусть их выбирает не легислатура, а непосредственно избиратели. "Во времена, подобные тем, в которые мы живем, нельзя быть слишком щепетильным", - убеждает он. Нью - Йорк стоит обедни; во имя "великого дела общественного порядка" можно слегка нарушить приличия, чтобы "не допустить атеиста в религии и фанатика в политике (Джефферсона. - В. П.) к рулю государства". "Предлагает меру для партийных целей, которую я не могу принять", - пометил на полях письма Джей. Старый федералист был слишком большим законником, чтобы пойти на откровенное жульничество.
На выборах 1800 года Гамильтон и его окружение намеревались вновь проводить прежнюю стратегию - выставить кандидатуры Адамса и Пинкни с последующим обезвреживанием Адамса. "Равная поддержка Адамса и Пинкни - единственное, что может спасти нас от лап Джефферсона, - инструктировал Гамильтон Сэджвика. - Поэтому необходимо, чтобы федералисты не раскалывались..." На этот раз план оказался еще более нереальным, чем четыре года назад.
По мере того, как гамильтоновцы осознавали неосуществимость своих планов, а Адамс разгадывал их интриги, борьба между фракциями делалась все ожесточеннее. Выведенный из равновесия Гамильтон пускается на крайнее средство. Он сочиняет злобный памфлет против Адамса, дабы очернить его в глазах федералистов и поднять шансы Пинкни. Предназначенный для узкого круга и подписанный самим Гамильтоном, памфлет был перехвачен Бэрром, и тот - к вящему удовольствию республиканцев - сделал его достоянием широкой публики, о чем автор, впрочем, вовсе не жалел.
В нем он припомнил все прегрешения Адамса и нарисовал портрет человека, "отличающегося отвратительным эгоизмом", "непомерной ревностью", "неуправляемой вспыльчивостью" и "безграничным тщеславием". Даже Джефферсон лучше, чем Адаме. "Если нам суждено иметь врага во главе государства, пусть это будет открытый противник, за которого мы не ответственны, который не навлечет на нашу партию позора своими глупыми никчемными действиями".
Это была роковая ошибка. Целя в Адамса, Гамильтон попал в самого себя. Популярность Адамса - не столько врага партии, сколько лично Гамильтона, - была, по существу, главным оставшимся капиталом федералистов. Гамильтон навлек на свою голову гнев единомышленников за то, что поставил личные счеты выше партийных соображений. По всеобщему признанию, нарисованный портрет больше походил на портрет самого Гамильтона, чем Адамса, о чем ему откровенно писал Кэбот. "Ваше тщеславие, гордость и властолюбивый характер обрекли вас быть злым гением страны", - вынес Гамильтону суровый приговор федералистский публицист Н. Вебстер. И последнее ироническое обстоятельство: республиканский журналист, жертва чрезвычайных законов Т. Купер предложил осудить Гамильтона за клевету на президента по закону "О подстрекательстве к мятежу". Адамс почему-то не дал хода этому делу.
Безрассудный выпад восстановил против Гамильтона не только умеренных федералистских лидеров, но и часть экстремистов - таких как Харпер и Джей. А старая, лично преданная ему гвардия федерализма редела. Одни, как Кинг и Смит, перешли на денежную дипломатическую работу; другие бесславно закончили жизнь - Р. Моррис в долговой тюрьме, Дж. Вильсон - в пьянстве и болезнях; остальные, как Сэджвик и Отис, готовились бросить политику. Гамильтон превращался в полководца без армии, да и остатки ее все неохотнее подчинялись ему.
Федералистскому разброду противостояла возросшая, как никогда, сплоченность республиканцев. Они вновь выдвинули Джефферсона и Бэрра - диумвират Вирджинии и Нью - Йорка. Сами кандидаты, как водится, в кампании не участвовали, но уже отлаженная партийная машина делала свое дело. Избирательные лозунги республиканцев, разработанные Джефферсоном, - политическая изоляция от полыхающей Европы, мир и торговля со всеми странами, роспуск армии и сокращение налогов, соблюдение конституции и демократических прав - отвечали настроениям народа. При этом республиканцы могли извлекать выгоды из промахов федералистов.
Республиканская пропаганда умело учитывала региональные различия и соответственно обрисовывала облик своего главного кандидата. В аграрных районах он изображался "другом фермеров", отчеканившим вещие слова о "богоизбранном народе"; в восточных штатах - "покровителем торговли и мореплавания", поборником религиозной свободы и освобождения рабов. Такая тактика оказалась небезопасной: на Юге прослышали о великом эмансипаторе. Друзьям пришлось потратить немало сил, чтобы успокоить плантаторов относительно намерений Джефферсона: ведь не освободил же он собственных рабов!
Федералистская пресса старалась отыграть очки с помощью усиленных нападок на вице-президента, но даже нарисованная ими демоническая фигура "якобинца - философа - атеиста" не смогла заслонить всю неприглядность облика федералистов с их послужным списком.
Впрочем, вопреки страхам одной и надеждам другой стороны, выборная гонка проходила очень ровно. Новая Англия и Делавэр пошли за федералистами, а Нью-Йорк, Юг и Запад остались за республиканцами. Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина оказались расколотыми. Выборщики голосовали строго по партийному принципу, лишь один из делегатов Род-Айленда нарушил дисциплину, отдав свой голос Джею вместо Пинкни.
Решающим стало последнее по счету голосование в Южной Каролине, перед которым Джефферсон, Бэрр и Адаме имели по 65 голосов, а Пинкни - 64. Особые надежды на этот тур возлагал Гамильтон. Именно здесь намечалось "обезвреживание" Адамса в результате ожидаемого распределения голосов между двумя южанами - Джефферсоном и Пинкни. Но Южная Каролина, во многом благодаря неустанным стараниям Чарльза Пинкни - однофамильца кандидата федералистов и сенатора от этого штата, отдала голоса всех своих выборщиков Джефферсону и Бэрру. Победа далась нелегко. "Хромые, калеки, больные и слепцы - всех вели или несли на носилках к урнам, - с воодушевлением докладывал Пинкни Джефферсону. - Проголосовавших на несколько сотен больше, чем налогоплательщиков".
Триумф республиканцев был изрядно подпорчен ничьей в соревновании Джефферсона и Бэрра, получивших по 73 голоса каждый. Право окончательного выбора, согласно конституции, принадлежало палате представителей, а это предвещало новые интриги и сделки. Джефферсон был чрезвычайно расстроен. Соратники твердо обещали "украсть" у Бзрра несколько решающих голосов. Он уже успел свыкнуться с мыслью о победе и даже начал формировать будущий кабинет. А теперь, "после столь энергичных усилий, увенчанных успехом, мы оказались в руках наших врагов", - жаловался он Мэдисону. У федералистов, имевших незначительное большинство в палате, был в запасе весьма рискованный вариант - бойкотировать выборы, а в период междувластия избрать президентом спикера палаты или какое-нибудь . другое послушное должностное лицо. Но такой план отдавал узурпацией власти и не нашел достаточно сторонников. Оставался тяжкий выбор между Джефферсоном и Бэрром.
Последний, было, объявил, что уступает первенство вирджинцу, но взял свои слова обратно, как только понял, что и сам может рассчитывать на президентское кресло. Многие федералисты палаты предпочитали делового оппортуниста Бэрра "нерешительному теоретику" Джефферсону. Люди более трезвомыслящие, близко знавшие обоих претендентов, - Г. Моррис, Джей, сам президент Адаме - высказались в пользу Джефферсона. "Неужели, - воскликнул Адамс, - все старые патриоты, подлинные опыт и таланты федералистов и антифедералистов должны подвергнуться унизительному лицезрению того, как этот ловкач Бэрр, подобно воздушному шару, наполненному горючим газом, поднимается над их головами?" Но главным адвокатом Джефферсона стал, как ни странно, сам "колосс федерализма".
Исход выборов развеял его последние надежды. Трудно представить более стремительное и бесповоротное низвержение с высот власти, чем-то, которое пережил Гамильтон. Всего только год назад он был влиятельнейшей политической фигурой страны, лелеял грандиозные планы, готовые вот-вот свершиться... А теперь он всего лишь обыкновенное частное лицо и в свои сорок три года осужден на томительное прозябание в трясине штатской жизни. Особую горечь его личной трагедии придавали одновременный триумф двух самых лютых врагов и мука предстоящего выбора между ними. И в этот момент своей глубочайшей катастрофы, когда он, гордец и честолюбец, казалось бы, должен был потерять рассудок от ненависти, и отчаяния, Гамильтон проявляет редкую твердость духа и дальновидность. Он находит в себе достаточно мужества для того, чтобы попытаться предельно объективно решить для самого себя, кому из двух врагов безопаснее доверить государственную систему, в которую он вложил столько сил и которую так стремился возглавить сам.
Для Гамильтона наступил момент испытания на прочность своих привычных узкопартийных установок во имя более высоких соображений. "Если и есть на свете человек, которого я должен ненавидеть, так это Джефферсон, - пишет он Г. Моррису. - С Бэрром у меня всегда были неплохие личные отношения. Но общественное благо должно преобладать над любыми частными мотивами". Оценка противника переносилась из привычной плоскости межпартийной склоки в новую, гораздо более ответственную плоскость передачи власти. В письме федералисту Джеймсу Байярду - одному из немногих, от кого зависел исход голосования в палате, Гамильтон излагает свои соображения наиболее полно.
В отзывах федералистов о Джефферсоне, начинает он, "я нахожу много преувеличенного. Пусть я буду первым, кто с ущербом для собственной популярности приоткроет завесу над подлинной натурой Джефферсона. Слишком поздно мне становиться его апологетом, да и нет на то желания". И все же. Пусть Джефферсон "чересчур серьезно относится к своей демократии", пусть он "был злобным врагом нашего правления", пусть он "презренный лицемер", зато в душе он "не противник исполнительной власти и не поступится ее правами, когда сам станет президентом". Далее Гамильтон дает очень реалистическую и прямо-таки пророческую характеристику своему противнику. "Неверно и то, что Джефферсон настолько фанатик, чтобы в следовании своим принципам пойти на что-нибудь противоречащее его интересам или популярности. Не менее любого другого он склонен к осторожности и приспособлению, расчетливости во всем том, что может послужить его выгоде и репутации. Вполне вероятным следствием такой натуры является сохранение систем, хотя первоначально и отвергавшихся, но которые, будучи однажды установлены, уже не могут быть опрокинуты без опасности для инициатора таких действий. На мой взгляд, истинная оценка качеств мистера Джефферсона позволяет ожидать от него осторожного приспособления, а не радикальной перестройки". Даже "пагубная предрасположенность" Джефферсона к Франции не так уж страшна, ибо это еще вопрос, "насколько она проистекает из его внутренних убеждений, а насколько из общей популярности Франции среди нас". А значит, по мере "сокращения этой популярности будет остывать и его пыл... Добавьте к этому, что нет разумных оснований подозревать его в продажности, а это дополнительная гарантия того, что он не выйдет за известные пределы".
По контрасту с осторожным и практичным Джефферсоном Бэрр для Гамильтона, напротив, - олицетворение произвола и насилия, "американский Катилина", "самый неподходящий в Соединенных Штатах человек для роли президента", который, как твердил Гамильтон Г. Моррису, "достаточно самоуверен, чтобы замахиваться на любые дела, достаточно смел, чтобы пойти на все, и достаточно безнравственен, чтобы ни перед чем не остановиться". "Хотя я убежден в его крахе, я также почти уверен, что он пойдет на узурпацию, и эта попытка приведет к немалым бедствиям". Трудно было предсказать точнее судьбу Бэрра.
Эти мысли Гамильтона в высшей степени выразительны. Они говорят о великой схватке больше, чем горы листовок и памфлетов. "Чувство обстановки (Гамильтона. - В. П.), скрытое признание того, что в конце концов "хорошие люди" есть в обоих лагерях, мощным лучом света пронзает мутные и темные глубины федералистской риторики, - отмечает историк Р. Хофстедер. - Около восьми лет федералисты поносили Джефферсона и его партию, дойдя в последние годы до того, что обвиняли лидера оппозиции, вице-президента Соединенных Штатов в якобизме, атеизме, фанатизме, безответственности, глупости, некомпетентности, личном вероломстве и политическом предательстве. Теперь этот "атеист в религии и фанатик в политике" должен был спокойно водвориться в новенький Белый дом благодаря любезности кучки федералистских конгрессменов. И хотя в партии федералистов вряд ли нашелся бы хоть один человек, доверявший ему, не нашлось в ней и такого, кто бы поднял на него руку. Федералисты... предпочли рискнуть с Джефферсоном, нежели с конституционной системой, созданной с таким трудом".
Но какая горькая ирония судьбы! Гамильтону приходилось использовать остатки своего влияния, чтобы выдвинуть своего величайшего врага на пост, которого он так желал для самого себя. Но даже это теперь не удавалось ему. Федералисты палаты не вняли его советам, оставаясь в плену собственной пропаганды, и продолжали рассуждать о "некомпетентности" и "радикализме" Джефферсона. Четыре дня и тридцать пять туров голосования не изменили первоначального результата: восемь штатов - за Джефферсона, шесть - за Бэрра, Вермонт и Мэриленд - расколоты. Сдвиг одного только голоса в делегациях двух колеблющихся штатов или Делавэра, чей единственный представитель - Байярд - голосовал за Бэрра, принесли бы победу Джефферсону.
Не известно, во что вылилось бы это рискованное состязание, если бы Байярд не прельстился ролью спасителя страны и "делателя президентов". Следуя совету Гамильтона, он решил предварительно получить от Джефферсона гарантии на будущее. Эти условия Гамильтона - Байярда интересны тем, что точно определяют параметры реальных расхождений между партиями к этому времени. Речь шла о сохранении финансовой системы, военно-морского флота, внешнеполитического нейтралитета и основного состава государственного аппарата, за исключением министерских постов. Госаппарат был насквозь федералистским, и его замена представлялась единомышленникам Гамильтона концом всякого упорядоченного правления.
Когда республиканец из Мэриленда С. Смит, взявший на себя роль посредника, сообщил Байярду о положительной реакции Джефферсона на предложенные условия, тот объявил, что покидает Бэрра. Поскольку исход борьбы стал ясен, федералисты решили хотя бы избавить себя от унизительной процедуры голосования за ненавистного вирджинца. Представители Южной Каролины и Делавэра, ранее голосовавшие за Бэрра, опустили чистые бюллетени, а федералисты Вермонта и Мэриленда воздержались от голосования. 17 февраля на тридцать шестом туре Джефферсон победил с результатом десять штатов против четырех.
Впоследствии Байярд заявлял, что Джефферсон выторговал себе президентство. Тот решительно протестовал. "Было много попыток заручиться моими обещаниями, - писал он. - Я отвечал всем, что не стану получать правительство через капитуляцию и не войду в него со связанными руками".
Нельзя не учитывать и то, что Джефферсон - без пяти минут президент - мыслил, естественно, уже иными категориями, чем Джефферсон - лидер оппозиции. Примеряясь к Белому дому, он, как и Гамильтон, был вынужден корректировать свои прежние установки с учетом подлинного соотношения политических сил. В конце концов победа над Адамсом была достигнута очень незначительным большинством, а семь северо-восточных штатов из шестнадцати не дали ему ни одного выборщика. Ограниченность региональной базы республиканцев очень беспокоила Джефферсона. "Если вся Новая Англия и дальше останется в оппозиции, наше правление будет очень нелегким", - писал он в августе. Соотношение сил между партиями было почти равным, и уже одно это предостерегало против крайних мер. Джефферсон свободно делился планами на будущее со своими сторонниками, включая того же Смита, и даже с некоторыми знакомыми федералистами - общий смысл его намерений не был тайной.
Много позже Смит признался, что вовлек Джефферсона в беседу по пунктам, интересующим Гамильтона и Байярда, "без малейшего ведома" вирджинца, который и не подозревал о его целях. Сделки "по рукам", как видно, не было. Да и существовала ли в ней необходимость, если уже наметилось обоюдное понимание возможных пределов партийных разногласий, необходимости политической преемственности во имя сохранения системы?
Пока это понимание оставалось привилегией немногих. На флангах федералисты и республиканцы, одурманенные собственной многолетней пропагандой, готовились к концу света и второму пришествию, причем радужные надежды одних лишь подкрепляли апокалипсические видения других, и наоборот. "Начинается XIX век.., - восклицал один республиканский публицист, - политический горизонт раскрывает прекрасные перспективы для правления Джефферсона - неодолимое расширение прав человека, ликвидация иерархии, гнета, предрассудков и тирании во всем мире". "Мы считаем, что великая работа только начинается, - пояснял один из вирджинских лидеров Дж. Рэндольф, - и что без коренных преобразований у нас мало оснований поздравлять самих себя по поводу простой замены одних людей другими". Радикальные республиканцы готовились и камня на камне не оставить от неприятельской системы.
"Трепещите все владельцы государственных бумаг, ибо конец ваш близок, - горестно откликалась на перемены федералистская газета "Коламбия сентинел", - старики, удалившиеся на покой, чтобы провести вечер жизни, пользуясь плодами труда молодости; вдовы и сироты со своими скудными сбережениями; общественные банки, страховые компании и благотворительные учреждения, которые, полагаясь на замечательные принципы Гамильтона, одобренные конгрессом, а также на гарантии национальной чести и собственности, вложили свои средства в государственный долг...". Некоторые правоверные федералисты всерьез готовились к ссылке, конфискации имущества и началу якобинского террора. Все - одни со страхом, другие с надеждой - ожидали того, что сам Джефферсон назовет потом "революцией 1800 года".
|
ПОИСК:
|
© USA-HISTORY.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'