
Саша Лютиков из Сан-Франциско
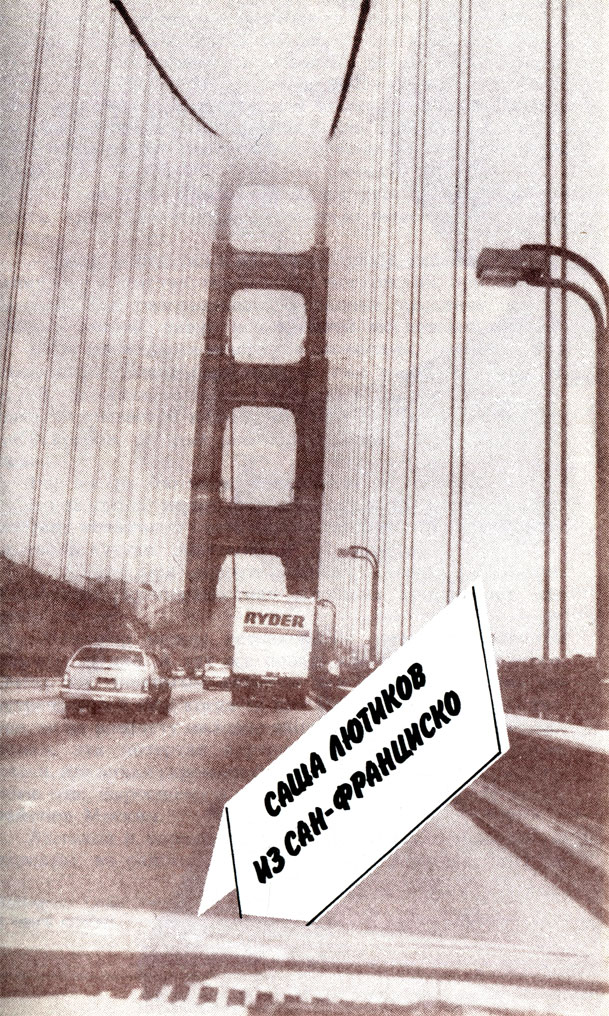

Художник Саша Лютиков в своей студии
Который день разыскиваю в Сан-Франциско одного человека, о котором мне рассказали в Нью-Йорке. Звоню и звоню по разным телефонам и все попадаю не туда - то на бывшую жену, то в шумящий множеством голосов ресторан. И чем меньше остается надежды, тем мне становится грустнее: кончается моя командировка, а когда я снова попаду в Сан-Франциско? Кто знает...
К вечеру я замотался, в отель опоздал. Сижу в номере, нервничаю. Телефонный звонок, снимаю трубку.
- Гена? Это Саша,- раздался русский голос.- Мы здесь, ждем тебя на тридцатом этаже вашего отеля в баре "Шерлок Холмс".
- Иду,- ответил я русскому голосу, казалось, знакомому мне с детства: говор чисто московский, причем особенный. Так разговаривают коренные москвичи, воспитанные старой, давно исчезнувшей московской улицей.
Было около семи вечера. За столиками, что шли вдоль стеклянной стены бара, сидело уже порядочно посетителей. Заманчивое место: отсюда, с застекленного колпака, открывается вид на весь город, башни нескольких небоскребов, светлые домики и дальше - голубизна залива.
Где же он, Лютиков? Как узнать по голосу?
Из-за стола, прямо перед выходом из лифта, поднимается невысокий коренастый человек в коричневой кожаной куртке. Знакомимся.
- А это моя подруга Кэролл,- говорит Лютиков. Улыбчивая жизнерадостная женщина протягивает мне руку.
...Разговор между незнакомыми людьми начинается обычно трудно. А тут все пошло как-то быстро и легко. Очень уж знакомым кажется мне Лютиков, будто мы встречались с ним когда-то или вместе росли. Это открытое, не по возрасту молодое лицо, а ведь он 1924 года рождения, эта потертая курточка, обтягивающая крепкие плечи, эта лихая скромность в разговоре - все это так знакомо мне, выросшему в одном из самых демократических районов Москвы.
Лютиков и впрямь оказался пареньком с московской окраины, из района, который здесь, в Америке, назвали бы "таф нейборхуд" - жесткий район, где надо уметь постоять за себя.
- Вы откуда? Тоже из Москвы? - Лютиков просиял.
- Из Марьиной Рощи? А я из села Всесвятское, знаете, там, где трамвай номер шесть делает круг. Тогда нам друг друга легко понять. Конечно, Всесвятское не Марьина Роща, но все же... У нас тоже царили суровые нравы, и кулачные бои, и поножовщина... А как вы жили?
- Тесно,- говорю я.
- Ну а мы с мамой обитали в комнатушке, которая была устроена вместо несостоявшегося лифта. Можно сказать, жили в лифте.
Он продолжает рассказывать о своем детстве, а я думаю: до чего же все похоже, передвоенное наше детство совпадает даже в мелких деталях.
Жил в Москве перед войной мальчик Саша Лютиков. Подрос, закончил школу, стал работать на фабрике "ИЗО", где изготовляли скульптуры и прочий культурно-просветительский инвентарь. Мечтал стать художником, после работы занимался спортом - футбол, городки, лапта.
- Особенно я увлекался борьбой самбо. Учился у замечательного тренера Анатолия Аркадьевича Харлампиева. В 1941 году занял в соревнованиях третье место среди юношей. Первое взять никак не мог - Чужаков был очень сильный парень, а вот то, что Андрееву проиграл, до сих пор обидно. Его я мог победить. Боролись мы в зале Дворца спорта "Крылья Советов". Знаете, где это?
- Да как же не знать! Я ж там работаю рядом! Каждый день проезжаю мимо.
- А во дворце что?
- Все то же самое, спортсмены тренируются...
- Мы до войны тренировались помногу, да и Харлампиев любил с нами возиться...
Лютиков рассказывает, а у Кэролл в глазах восторг: самбист, чемпион, вот они какие, русские мужчины! А русские мужчины действительно неплохие. И в подтверждение этому Саша нежно целует ей ручку.
...Жил-был в Москве юноша Саша Лютиков, работал, ездил на тренировки на "Крылья Советов", пил квас, который наливали в большие кружки из деревянной бочки, ходил на Сельскохозяйственную выставку. Началась война. И в семнадцать лет пошел Лютиков в военкомат записываться добровольцем на фронт. Сначала его не взяли - молод. Когда немцы подходили к Москве, семнадцатилетний Саша Лютиков добился своего - оказался в действующей армии.
- В сорок втором нас перебросили на Кавказ,- рассказывает Лютиков.- Шли тяжелые бои, боеприпасов не хватало, одна винтовка на троих...
В конце того же года он попал в плен. Эшелоны, забитые голодными, умирающими советскими военнопленными, привезли его в Германию, в Лотарингию, где вместе с другими выжившими его бросили работать в шахты.
- Знаете, сколько я там проработал? Пятнадцать месяцев. Это огромный срок. До сих пор не понимаю, как выжил. Чем кормили? Только баландой из брюквы. Лагеря были на вымирание. Многие наши ребята пытались бежать. Сделать это было просто - исчезнуть во время конвоирования на шахту. Нас и не охраняли особенно, считалось, что все равно далеко не убежим. Языка немецкого мы не знали, бритоголовые, одежда... сами понимаете. Считалось, местные немцы выдадут. Они и выдавали, беглецов возвращали в лагерь, били смертным боем. А я все-таки бежал. Как мне повезло, сам не понимаю. Днем прятался, ночами шел в сторону Франции. От Лотарингии французская граница не так уж и далеко. В конце концов попал к французам в маки...
Лютиков рассказывает кратко, без деталей, очень обыденным тоном. А Кэролл сияет и время от времени поглядывает на меня. Во взгляде ее и радость, и волнение: впервые за долгие годы Саша рассказывает о своей судьбе не просто соотечественнику - советскому человеку.
А за стеклянной стеной высотного бара "Шерлок Холмс" панорама вечернего, залитого предзакатным солнцем Сан-Франциско... Господи, думаю я, куда только не заносит судьба русских людей! И всюду они остаются самими собой - чаще всего скромными, нехвастливыми, застенчивыми.
Пора ужинать. Кэролл пригласила к себе. Но мне непременно хотелось побывать у Лютикова в студии. Ведь он художник. Чтобы все успеть - разделились. Высадили Кэролл у ее дома, пусть готовит ужин. Сами поехали дальше к Саше, на его старой-престарой машине, не то бывшем "форде", не то "крайслере", с облезлой, поднимающейся лоскутами виниловой крышей. Едем по Гери-стрит. Лютиков показывает огромный щит на фасаде одного из домов: изображение аккуратно подрумяненного батона типа халы.
- Это рисовал я.
Саша работает в компании, которая занимается изготовлением красочных щитов: "Курите сигареты Мальборо!", "Пейте только пиво "Будвайзер", "Водка "Смирнофф" - лучшая в мире". Студия его оказалась на окраине в старом двухэтажном доме. Поднялись наверх.
- Мне повезло,- сказал Саша.- Подвернулось же такое чудо. Плачу за комнату всего триста долларов.
Студия - небольшая комната с низким потолком и не очень светлым окном. Лютиков ходит за картинами куда-то в соседнюю комнатушку, приносит, выставляет, ждет, что я скажу. Присаживается на стуле, не торопясь с объяснениями.
Ночной пейзаж, залитый лунным светом, острый кипарис, домик, горы в отдалении, ясно-ясно светящаяся синева на горизонте неба. Еще одно полотно, поменьше. Большеглазая девочка с волосами желтыми, как подсолнух. Очень похожа на мою дочь Аленку.
Не берусь судить решительно, хороший ли художник Саша Лютиков, но, как объяснили мне уже в Нью-Йорке, этот стиль называется "ретро" и спросом на художественном рынке сейчас не пользуется. Что ж, можно и подождать, мода здесь переменчива.
- Вот скоро закончу работу в рекламной компании,- говорит Лютиков,- стану получать свои восемьсот долларов. До пенсии мне совсем немного. Маленькая пенсия, зато по-настоящему займусь живописью.
Из студии мы поехали ужинать к Кэролл. По дороге все так же немногословно он рассказал мне о своих семейных делах. У него две дочери. Младшая удачливая, начинающий продюсер в Голливуде:
- Знаешь, она мне часто говорит: "Папа, настанет день, и я сделаю фильм о тебе, о твоей жизни". Ну а старшая... Со старшей беда. Пропала без вести. Сейчас ей тридцать, если жива. А исчезла, было двадцать пять. Наркотики, компании, жизнь у нее не сложилась. Вот так, среди бела дня, каждый год в Америке пропадает около пятидесяти тысяч мoлoдыx людeй...
Сейчас Сашав процессе развода со своей женой. Говорит о ней коротко:
- Тяжелый человек, невыносимая была всю жизнь, как Гитлер.- Потом добавляет: - Жалко ее.
А вот с Кэролл они вскоре собираются пожениться.
У Кэролл в доме за обедом или, говоря по-нашему, за ужином Саша Лютиков и закончил свою историю - эпопею военных и послевоенных лет.
...Бежал он из плена, добрался до Дижона, отшагав почти пятьсот километров. Французские власти посадили его за бродяжничество в тюрьму. Дали ему пятнадцать суток. Страна была оккупирована немцами, но отношения между администрациями были непростыми. Во всяком случае, немцам французы его не выдали. В тюрьме Лютиков познакомился с местными жителями.
- Говорить по-французски я не умел, но удалось достать бумагу, карандаши, я рисовал портреты и пейзажи, ко мне хорошо относились,- рассказывает Саша.- Вышел я из тюрьмы с одним французом, он оказался подпольным деятелем маки. Он стал потом большим партизанским лидером. Звали его командант Сэттер. С ним я и ушел в партизанский отряд. Партизанская война во Франции была совсем не такая, как у нас. Жили мы в лecy, нападали из засад на немецкие отряды, минировали железнодорожные линии. Но иногда могли сесть на машину и съездить посидеть в кафе в соседнем городке, пообедать, выпить кофе. Забавно, не правда ли? А ведь это была игра со смертью.
Я слушаю Лютикова и думаю: как странно. Казалось бы, я много читал о годах войны во Франции, знаю имена героев антифашистов, с некоторыми оставшимися в живых даже знаком, помню их рассказы о том, как много советских военнопленных активно сражались в партизанских отрядах. Об этих людях написаны очерки, книги. Правда, рассказы в большинстве своем стыдливо обрываются на описании воинских подвигов и боевых французских наград.
Что сталось после войны с так называемыми "возвращенцами" из числа бывших белоэмигрантов? Как складывались на Родине судьбы бывших советских военнопленных, участников французского Сопротивления? Об этом, за редким исключением, мы почти ничего не знаем. Об этом начинают писать только сейчас.
А Лютиков продолжает свой рассказ:
- Война была для нас, бывших советских военнопленных, очень, ну как бы лучше сказать, очень пестрой, что ли. Конечно, на войне все просто - жизнь и смерть. Но для нас, советских людей, еще с неожиданными осложнениями. Дело в том, что вместе с фашистами на их стороне сражались и "русские" отряды. Вербовали их очень просто: "В лагере ты умрешь с голоду, а тут есть шанс выжить". Эти люди, так же как и власовцы, в последние два года войны вели себя совершенно непредсказуемо. Третий рейх был обречен, многие предатели заметались, начали искать выход.
В августе 1944 года наша связная, монашка, принесла в отряд весть: несколько "русских" солдат хотят перейти на сторону партизан. Они передали, что охраняют железную дорогу на подступах к тоннелю. Предложение показалось нам удачным: у нас давно уже было намечено взорвать этот тоннель и нарушить движение нацистских эшелонов.
На следующий день мы встретились с "русскими". Их двое, нас четверо. Трое среди нас - французы, четвертый - я. Начинаем договариваться: ночью атака на железнодорожную станцию. Перебежчики дают сигнал, мы нападаем на немцев, взрываем пути, заваливаем тоннель. Посланцы говорят по-русски, монашка переводит. Товарищи мои ждут, когда переведут, а я все понимаю. Видно, чем-то я себя выдал: один из предателей насторожился. Побледнел, решил, попал в руки красного комиссара. Тогда я ему и выкладываю: "Да, я русский, только, как и положено русскому человеку, воюю против нацистов".
Отпустили мы парламентеров, а назавтра под вечер решили провести разведку. Приехали на машине на железнодорожную станцию, смешались с толпой, кто в пиджаке, кто в свитере, на головах береты. А потом шасть в станционный буфет - думаем, хоть перекусим немного, изголодались в лесу. Входим, садимся. Вдруг вижу: в дальнем углу сидит тот самый мордастый дядька, отъелся у немцев. Глаза у него как шары на лоб выкатились, покраснел, будто его вот-вот хватит апоплексический удар. Вижу, встает он и бочком, бочком к двери. Что задумал: предал один раз - снова предаст. Говорю своим: "Срочно сматываемся".
А командовал нашим отрядом капитан Маргаш - это известный герой Сопротивления. У остальных были клички. Одного звали Авиатер, другого Левандер, а меня просто Саша.
Выскочили на улицу, быстро в машину и дуть обратно. Едем, все в порядке. И как назло - прокол шины. И снова накладка, запасной шины у нас нет, в багажнике ехал один из наших ребят. Что делать? Застряли на шоссе. Неподалеку деревенька. В любую минуту на дороге могут появиться немцы. Послали одного из наших с шиной в деревню. Сидим, курим, ждем. Вдруг вдалеке появляется немецкий грузовик с солдатами. Тут у нас нервы и сдали, автоматы в руки и в канаву. Залегли. Немцы, видно, что-то заподозрили. Грузовик остановился и повернул обратно. Ну, думаем, может, и пронесло. И парень наш как раз вернулся из деревни с залатанной шиной. Ставим колесо, вот-вот поедем. Тут с обеих сторон шоссе немецкие автомашины. Значит, решили брать нас с двух сторон, чтоб надежнее было. Я за пулемет, нажимаю на курок, выстрелов нет: заклинило...
Тут меня и схватил немец, огромный детина. Зажал мою голову под мышкой и давит. Я ведь самбист, знаю - не выкрутишься. Притворился, что потерял сознание, обвис у него в руках, чувствую, как немец разжимает свои клешни. Дал ему подножку, вывернулся, побежал. Автоматная очередь почти в упор. И все. Потом уже узнал, семь пуль в меня попало.
В эту минуту и кончилась моя война. Потом мне уже рассказывали, немцы бросили меня на дороге, уверены были, что убит наповал. Местные жители подобрали, отнесли в замок. Принадлежал он одной французской графине. В этом замке меня и вернули с того света. Первый раз, когда очнулся, решил, я умер и уже в раю: лежу на чистых простынях, подают шампанское. Долго потом меня кормили с ложечки, двигаться не мог. Потом встал, начал учиться ходить. Война кончилась, я еще передвигаться самостоятельно не могу. Прошло три года, прежде чем я пришел в себя...
Всю эту историю Лютиков рассказывает очень спокойно, а Кэролл все больше волнуется:
- Ну почему ты молчишь? Тебя же потом наградили! - упрекает она.- Высокая французская награда.
- Да, медаль "Военный крест со звездой". Сам генерал Чеониг мне вручал, руку жал.
- А за что дается эта медаль?
- За геройство, вроде нашего ордена Красного Знамени.
Почему он не вернулся домой, этот парнишка с московской окраины? Почему скитания по белу свету не привели его в конце концов туда, где, казалось бы, он и должен был найти естественное пристанище?
Почему не вернулся? Глядя в его лицо, я не задал этого вопроса. Поверхностный ответ был ясен: к тому времени, когда он встал на ноги инвалидом, было хорошо известно, что бывших военнопленных на Родине встречали отнюдь не цветами. Для тех, кто сражался в европейском Сопротивлении, особых исключений не делалось. Всех или подавляющее большинство из них ждали лагеря, длительные сроки заключения.
Какой это трагический, тяжелый разговор - судьба советских военнопленных. Разговор этот едва начинается. Сравнительно недавно стали известны цифры - из 5,7 миллиона человек, попавших в плен, погибло около 3,5 миллиона. Народное бедствие, огромный, страшный пласт нашей истории, не скупившейся на страдания для людей. Трагедия, сама по себе взывающая к ответу: почему это случилось, почему в окружении оказались целые армии, почему за каких-то три-четыре месяца захватчики дошли до пригородов Москвы, почему потом за возвращение родной земли, километр за километром, пришлось расплачиваться жизнями еще миллионов людей? Но трагедия эта усугублялась тем, как страна отнеслась к своим сыновьям, на которых обрушились тяжкие муки фашистского плена.
Подписанный Сталиным документ номер 270 от 16 августа 1941 года наконец-то опубликован. Но смысл его давно известен. Этим приказом плен приравнивался к измене Родине. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Тысячи могил, а то и неприметных бугорков разбросаны по всей Западной Европе - там покоится прах советских людей, не по доброй воле оказавшихся на чужбине. Есть среди них особые могилы, те, над которыми воздвигнуты памятники, к которым наши туристы возлагают венки. Это могилы героев Сопротивления, советских военнопленных, сражавшихся в отрядах местных партизан, признанных Родиной, удостоенных ею высоких наград. Я смотрю на сидящего передо мной немолодого человека и думаю: а чем он, Саша Лютиков, хуже их? Только тем, что в тот августовский день 1944 года, простреленный очередью из фашистского автомата, он, вопреки всему, не умер, выжил?
Обед продолжается. Что-то мы жуем, глотаем, чем-то еду запиваем. Молчит Лютиков. Молчу и я. А Кэролл счастливо улыбается, не замечая нависшего над столом тяжелого молчания. Такой замечательный герой, настоящий мужчина, борец с фашизмом! О таком человеке можно только кино посмотреть, выдуманное. А вот он, Саша, настоящий герой, сидит за ее столом.
А Лютиков все молчит.
Почему он не вернулся?
Сложен человек, из многого состоит. О чем думал израненный парень, когда решил не возвращаться? Испугался? Может быть. Был обижен, что о нем забыли? Вполне вероятно. Вера в правоту того, что делалось от имени народа в конце 30-х годов, ощущение сопричастности к своей стране, высокий патриотизм - вот с чем уходили на фронт поколения молодых людей. Может, и сидела в нем детская обида потерявшегося в страшных бурях войны московского мальчишки. Самбист, никогда ничего и никого не боялся, мечтал стать художником, рисовать подмосковные рощи... И вот в двадцать с лишним лет неизвестно, как жить и что делать... Может, решил поправить здоровье, переждать до лучших времен. Можно выдвинуть десятки версий, почему Лютиков поступил именно так, и все равно не угадать: жизнь сложнее наших схем и головных построений.
...Председатель Московской федерации самбо Владимир Алексеевич Жигалов, историк этого вида спорта и сам бывший борец, откликнулся живо и с интересом.
- Лютиков? Вроде встречалась мне такая фамилия. А может, путаю. Какие он вам имена называл? Так и сказал: Харлампиев и Андреев? И Чужакова помнит? Надо же! - восхитился Жигалов.- Значит, наш самбист, если помнит. Значит, человек нормальный.
- В каком отношении?
- Ну... сами понимаете, в каком. Предатель с советским человеком встречаться не станет, верно? Да еще имена называть. Одного не пойму,- напористо продолжал Владимир Алексеевич,- почему он к нам не приезжает?
- Не знаю, но вообще-то он небогатый человек, можно даже сказать - бедный.
- Бедный, говорите? Ладно, что-нибудь сообразим.
...И снова я ни о чем не спросил. Тогда казалось неловко, а сейчас жалею. И снова остается гадать, почему не приезжал столько лет. Видно, что-то он в себе сломал, переборол за эти годы. Или все силы уходили на борьбу за выживание? Как спросишь?
- Вот скоро уйду на пенсию,- словно отвечая на мои незаданные вопросы, сказал Лютиков,- займусь целиком живописью, первый раз в жизни. Приедешь, увидишь разницу.
...Он отвез меня в гостиницу. Остановил свой облезлый кабриолет у нарядного освещенного подъезда. Вышел. Мы попрощались. Потом вдруг рванулись друг к другу, обнялись.
На душе было тяжело.
* * *
Прошло несколько лет, мы снова встретились с Лютиковым. За это время в жизни Саши случилось много перемен. Нашлась его пропавшая, "захипповавшая" дочка, учится в колледже, примерно навещает отца по воскресеньям.
А отец женился, да, читатель, на Кэролл. А Кэролл - это уже иной социальный слой. И родители Кэролл, и дедушки, и прадедушки - процветавшие жители Сан-Франциско. И живет теперь Саша недалеко от залива, в самом престижном районе города, в старом, красивом доме, обшитом изнутри дубовыми панелями. Саша ушел на пенсию и занят теперь только живописью, и все стены большого трехэтажного дома увешаны его новыми картинами. Работает он все интересней и интересней, часто и резко меняя стиль письма.
Иногда Саша с Кэролл путешествуют, ездят в Европу, непременно встречаясь во Франции с той самой графиней, что когда-то, почти полвека назад, спасла ему жизнь.
- Саша, ну, а к нам в Москву когда же? - спрашиваю я.
- Да-да,- подхватывает радостно Кэролл,- в Москву, в Москву!
А Саша молчит, будто и не слышит. Нет у него никого в Москве, умерли все давно. Нету.
|
ПОИСК:
|
© USA-HISTORY.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://usa-history.ru/ 'История США'